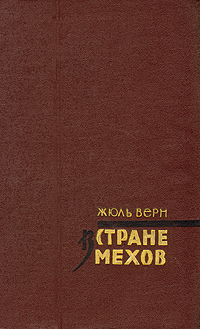О книге
«Упрямец Керабан» — одна из самых увлекательных и веселых книг великого фантаста Ж. Верна. Приключения, описанные на ее страницах, происходят в Турции, в Крыму, на Кубани, в Грузии.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава первая,
в которой ван Миттен и его друг Бруно гуляют, смотрят, беседуют, не понимая, что происходит.
В тот день, 16 августа, в шесть часов вечера площадь Топ-Хане в Константинополе[1] обычно многолюдная и оживленно гомонящая, была молчаливой, мрачной и почти пустынной. С высоты спускающейся к Босфору[2] лестницы открывался чудесный вид, но ему явно недоставало людей. Только несколько иностранцев, облаянных сворой бездомных собак, спешили взобраться по узким и грязным улочкам в предместье Пера. Именно там, на холме, находился квартал, специально отведенный для чужеземцев. Его каменные дома выделялись белизной на черном фоне кипарисов.
И все же она очень живописна, эта площадь. Даже без разноцветной пестроты костюмов. Живописна и как бы создана, чтобы ласкать взгляд. Чего тут только нет! Мечеть[3] Махмуда со стройными минаретами[4]; прелестный фонтан в арабском стиле. Лавки — здесь продаются шербеты и тысячи других сладостей. Витрины завалены тыквами, дынями Смирны[5] и виноградом Скутари[6]. Они успешно соперничают с лотками торговцев благовониями и продавцов четок. А лестница! К ней причаливают сотни живописных каиков[7], их двойные весла в скрещенных руках каиджи[8] не бьют, а ласкают голубые воды Золотого Рога[9] и Босфора.
Но где же находились в этот час праздные завсегдатаи площади Топ-Хане? Персы, кокетливо увенчанные астраханскими колпаками? Греки, не без элегантности покачивающие своей фустанеллой[10] с тысячью складок? Черкесы, в их неизменной одежде военного покроя? Грузины, остающиеся русскими даже за границей? Арнауты[11], чей густой загар просматривается в вырезах их вышитых курток? И наконец, турки, эти османы, сыновья древнего Византия[12] и старого Стамбула! Где они?
Наверняка не имело смысла спрашивать об этом у двух западноевропейцев, которые настороженно прогуливались по площади, почти в полном одиночестве. Они явно не нашлись бы, что ответить.
Более того. И в самом городе, за пределами порта и с другой стороны Золотого Рога царили столь же непонятные тишина и пустынность. Безмолвно синела глубокая открытая впадина между старым Сераем[13] и пристанью Топ-Хане. Понтонные мосты, соединяющие правый и левый берега, образовывали огромный амфитеатр[14] Константинополя — и он тоже казался уснувшим. Неужели никто, и впрямь, не бодрствовал в эти минуты во дворце Серай-Бурну? И куда исчезли все верующие, хаджи[15] в мечетях Ахмеда, Баязида, Святой Софии, Сулеймана? Похоже, бесконечно длился послеобеденный отдых надзирателя Сераскирекой башни, равно как и его коллеги из Галатской башни. А ведь обоим им вменялось в обязанность следить за началом пожаров, столь частых в городе!
Да вправду ли это знаменитый Константинополь — гроза Востока, воплощенная в действительность волей Константина[16] и Мехмеда II[17]? Вот о чем спрашивали себя иностранцы, бродившие по площади — двое голландцев из Роттердама. Странная прихоть судьбы привела Яна ван Миттена, с его лакеем Бруно, на самый край Европы.
Всем известный ван Миттен имел внешность столь же непримечательную, сколь и располагающую. Ему было под пятьдесят. Белокурый, с небесно-голубыми глазами, светлыми бакенбардами и бородкой, без усов. Щеки — наливное яблочко, нос чуть вздернут. Широкоплечий, высокий, он, возможно, был задуман как спортсмен, но давний замысел природы оказался перечеркнут уже появившимся животиком. Одним словом, он представлял собой доброго малого — типичный голландский бюргер.
Кому-то мягкий и общительный ван Миттен, всегда готовый уступить в спорах, прямо-таки созданный для компромиссов, возможно, показался бы немного слабохарактерным. Но о таких обычно говорят: меньше упрямства — больше обаяния. Или еще так: шелк приятней железа! Только один раз за всю жизнь ван Миттен, доведенный до крайности, позволил вовлечь себя в спор, последствия которого расхлебывал до сих пор. Наверное, доброму малому в тот роковой раз действительно следовало уступить. Если бы он знал, что уготовило ему будущее! Не станем, однако, забегать вперед, — назидание не должно опережать действия.
— Итак, хозяин? — заговорил Бруно, когда оба добрались до площади Топ-Хане.
— Итак, Бруно?
— Вот мы и в Константинополе…
— Да, в Константинополе, иначе говоря, в нескольких тысячах лье[18] от Роттердама.
— Согласитесь, наша Голландия сейчас далековата!
— Я никогда не смог бы находиться от нее слишком далеко, — вполголоса промолвил ван Миттен так, словно Голландия могла его расслышать.
В лице Бруно ван Миттен имел самого преданного слугу, который даже внешне стал на него походить. За двадцать лет слуга и господин, вероятно, не разлучались ни на один день. Если Брутто и не поднимался до положения друга, то, уж во всяком случае, был чем-то значительно большим, нежели просто лакеем. Службу свою он исполнял умно и методично, не стеснялся давать советы, из которых ван Миттен мог бы извлечь пользу. Случалось, даже делал замечания, которые хозяин охотно принимал. Больше всего расстраивало слугу то, что его господин находился как бы у всех под каблуком и не мог сопротивляться желаниям других, одним словом, не проявлял характера.
«Это принесет вам беду, — частенько повторял он, — вам и мне тоже!»
Здесь нужно добавить, что Бруно, который достиг к тому времени сорокалетнего возраста, по природе своей был домоседом и не переносил разъездов. Перемещения утомляют, нарушают равновесие в организме, и человек начинает уставать и худеть, а Бруно, имевший привычку взвешиваться каждую неделю, очень дорожил своим представительным видом. Поступив на службу к ван Миттену, он весил менее ста фунтов[19] что для голландца — унизительно мало. Но затем благодаря прекрасному распорядку жизни в новом доме менее чем за год прибавил фунтов тридцать. Теперь-то он мог, не стесняясь, появляться в любом обществе! К моменту, о котором идет речь, Бруно весил уже сто шестьдесят семь фунтов — чем не среднестатистический голландец! Но скромность — прежде всего, поэтому достичь двухсот фунтов он собирался лишь в пожилом возрасте.
В общем, будучи привязанным к дому, своему родному городу и стране, Бруно ни за что без серьезных причин не согласился бы покинуть ни свое обиталище на канале Ниуе-Хавен, ни добрый Роттердам — первый, по его понятиям, город среди всех городов, ни свою Голландию — самое прекрасное королевство в мире.
Все это так, но не менее верно также и то, что в день, о котором мы говорим, Бруно находился в Константинополе — древней Византии, Стамбуле турок, столице оттоманской.
Кем же, в конце концов, был ван Миттен? Богатым купцом из Роттердама. А если точнее — торговцем табаком, консигнатором[20] лучшей продукции Гаваны, Мериленда, Виргинии, Варинаса, Пуэрто-Рико и особенно Македонии, Сирии и Малой Азии.
Уже двадцать лет, как ван Миттен осуществлял солидные сделки с константинопольской фирмой Керабана, которая отправляла свои знаменитые сорта Табаков во все пять частей света. Благодаря длительной переписке с этой солидной компанией голландский негоциант[21] в совершенстве выучил турецкий язык, или османский (как его тогда называли на всей территории империи), и разговаривал на нем, как настоящий подданный падишаха или амир-ал-муминина[22]. По этой же причине и Бруно, который, как упоминалось выше, был зеркальным отражением своего хозяина, говорил по-турецки не хуже, чем тот.
Между нашими двумя оригиналами существовал даже уговор, что, находясь в Турции, они будут говорить только по-турецки, чтобы ничем не отличаться от остальных. И действительно, если бы не костюмы европейского покроя, то их можно было бы принять за двух османцев старинного рода. Это, между прочим, нравилось ван Миттену, хотя и вызывало некоторое неудовольствие у Бруно.
И, тем не менее, как послушный слуга он каждое утро говорил хозяину: «Efendim, emriniz ne dir?»
Что значило: «Что вам угодно, господин мой?»
Хозяин, в свою очередь, отвечал ему на хорошем турецком: «Sitrimi pantalounymi fourtcha».
И это означало: «Почисти щеткой мой сюртук и брюки».
Из всего сказанного становится вполне понятным, почему ван Миттен и Бруно так свободно расхаживали по Константинополю: во-первых, они очень прилично разговаривали на местном языке; затем, им не могла не оказать дружеского приема фирма Керабана. Глава этой фирмы уже бывал в Голландии и теперь, по закону гостеприимства, выказывал расположение своему роттердамскому корреспонденту. Это как раз и послужило основной причиной того, что ван Миттен покинул свою страну и обосновался в Константинополе, а Бруно послушно последовал за ним, и того, наконец, что оба они расхаживали теперь на площади Топ-Хане.
В этот уже поздний час по улицам фланировали[23] и несколько других прохожих. Кроме иностранцев, можно было увидеть и двух-трех подданных султана, разговаривавших друг с другом. Хозяин кофейни, в центре площади, не спеша расставлял столики, в ожидании посетителей.
— Через час, — заметил один из турок, — солнце закатится в воды Босфора, и тогда…
— И тогда, — подхватил второй, — мы сможем есть, пить и, особенно, вдоволь курить.
— Все же он излишне долог, этот пост рамадана[24].
— Как и все посты.
Со своей стороны, двое иностранцев, гуляя перед кофейней, обменивались замечаниями.
— Они удивительны, эти турки, — рассуждал один. — Если бы какой-нибудь путешественник посетил Константинополь в столь скучный пост, он унес бы с собой поистине грустное представление о столице Мехмеда Второго!
— Ба! — возразил другой. — Воскресный Лондон не веселее. Если турки постятся днем, то ночью они наверстывают упущенное. Вот раздастся пушечный выстрел на закате — и, увидите, вместе с запахом жареного мяса, ароматом напитков, дымом чубуков[25] и сигарет, улицы снова примут свой обычный вид.
Словно в подтверждение его слов, в тот же момент хозяин кофейни позвал своего слугу, крича:
— Живей, поворачивайся! Через час нахлынут постящиеся и начнется столпотворение!
Двое иностранцев продолжили разговор:
— Мне кажется, что Константинополь интереснее наблюдать как раз в рамадан. Если день здесь грустен, хмур и угрюм, как и в среду[26] нашего поста, то ночи — веселы, шумны и разгульны, как в карнавальный вторник.
— О да, вы правы.
Пока оба иностранца обменивались замечаниями, турки не без зависти поглядывали на них.
— Хорошо этим иностранцам, — говорил один. — Могут пить, есть и курить, если хочется.
— Без сомнения, — поддержал другой, — если что-нибудь раздобудут! Но сейчас им не отыскать ни кебаба из баранины, ни плова из цыпленка с рисом, ни ломтя баклавы[27], ни даже куска арбуза или огурца. Мы постимся по закону, а они — поневоле!
— Да просто они не знают хороших местечек. За несколько пиастров[28] всегда можно найти покладистых торговцев, которые получили у Мухаммада освобождение от поста.
— Ей-богу, мои сигареты попусту сохнут в кармане! — воскликнул один из турок. — И пусть не говорят, что я потерял добровольно хоть несколько крупиц латакие[29].
Рискуя вызвать неодобрение, этот правоверный, мало стесняемый заповедями Корана[30] достал сигарету, зажег ее и сделал две-три быстрые затяжки.
— Смотри, — предостерег его товарищ, — если пройдет кто-либо из малотерпимых улемов[31], ты…
— Ладно, — отмахнулся тот, — я спасусь тем, что проглочу дым, и никто ничего не заметит.
Оба приятеля продолжили прогулку, слоняясь по площади, а затем и по соседним улицам, поднимающимся к предместьям Пера и Галата[32].
— Да, хозяин, это странный город! — воскликнул Бруно, поглядывая направо и налево. — После того как мы покинули гостиницу, я вижу только тени обитателей. Настоящие призраки Константинополя! Какое-то сонное царство. Даже эти тощие желтые собаки не пошевелятся, чтобы укусить тебя за икры… Ну и ну! Что бы там ни рассказывали путешественники, странствия ничего не дают. Я предпочитаю наш добрый Роттердам и серое небо старой Голландии.
— Терпение, Бруно, терпение! — спокойно заметил ван Миттен. — Мы приехали только несколько часов назад. Должен, однако, признать, что это вовсе не тот Константинополь, о котором я мечтал. Человек воображает, что окажется на настоящем Востоке, погрузится в сказку из «Тысячи и одной ночи», а на самом деле становится узником…
— …огромного монастыря, — докончил Бруно, — посреди людей, хмурых, как отшельники.
— Мой друг Керабан объяснит нам, что это значит! — утешил слугу ван Миттен.
— Но где же мы сейчас находимся? — спросил Бруно. — Что это за площадь? Что за набережная?
— Если я не ошибаюсь, — ответил ван Миттен, — мы на площади Топ-Хане, на самом краю Золотого Рога. Перед нами — Босфор, который омывает берег Азии, а с другой стороны порта ты можешь увидеть верхушку Серая и турецкий город, — вон он, громоздится ярусами.
— Серай! — воскликнул Бруно. — Это и есть тот дворец султана, где он живет со своими восемьюдесятью тысячами одалисок[33]?
— Восемьдесят тысяч, Бруно, — это слишком, даже для турка. В Голландии, как ты знаешь, и с одной-то женой порядка в доме не жди.
— Ладно, ладно, хозяин! Постараемся не говорить об этом совсем, а уж если придется, то как можно меньше.
Затем, повернувшись к по-прежнему пустующей кофейне, Бруно заметил:
— Но вот, по-моему, уютный уголок. Мы замучились, пока спускались в предместье Пера. Турецкое солнце совсем нас зажарило, и я не удивлюсь, если хозяин захочет освежиться.
— Это способ сказать мне, что ты сам хочешь пить, — улыбнулся ван Миттен. — Хорошо, зайдем в эту кофейню.
И оба направились к маленькому столику перед заведением.
— Каваджи! — крикнул Бруно, похлопав на европейский манер.
Никто не появился.
Бруно позвал еще раз, но уже громче.
Хозяин возник в глубине кофейни, но не проявил никакой готовности подойти.
— Иностранцы… — бормотал он, заметив обоих клиентов перед столиком. — Они в самом деле думают, что…
Наконец он приблизился.
— Каваджи, дайте нам бутылочку вишневой. И свежей! — попросил ван Миттен.
— С пушечным выстрелом, — ответил хозяин.
— Как это «вишневая с пушечным выстрелом»? — удивился Бруно. — С мятой, с мятой!
— Если у вас нет вишневой, — сказал ван Миттен, — дайте стакан розового рахат-лукума[34]. Говорят, что он превосходен.
— С пушечным выстрелом, — повторил владелец кофейни, пожимая плечами.
— Но что он имеет в виду под своим пушечным выстрелом? — спросил Бруно у хозяина.
— Посмотрим, — ответил тот, все еще не теряя спокойствия. — Если у вас нет рахат-лукума, дайте нам чашку мока[35]… шербета[36]… что угодно, друг мой.
— С пушечным выстрелом!
— С пушечным выстрелом? — недоумевает ван Миттен.
— Не раньше, — сказал хозяин.
И без дальнейших церемоний он вернулся в свое заведение.
— Вот что, хозяин, — сказал Бруно, — уйдемте-ка отсюда. Здесь нечего делать. Посмотрите только на этого невежу-турка, который отвечает вам «пушечными выстрелами».
— Верно, Бруно, — согласился ван Миттен. — Мы несомненно найдем какую-нибудь кофейню получше.
И оба вернулись на площадь.
— Решительно, хозяин, — сказал Бруно, — пора бы нам встретить вашего друга, господина Керабана. Без него нам тут ни за что не разобраться, что к чему.
— Да, Бруно. Но немного терпения. Нам было сказано, что встретим его на этой площади…
— Не ранее семи часов, хозяин! Это сюда, к лестнице Топ-Хане, должен причалить каик и перевезти его на другую сторону Босфора, на виллу в Скутари.
— Действительно, Бруно, и этот уважаемый негоциант сумеет ввести нас в курс того, что здесь происходит. Уж он-то — настоящий осман! Неколебимый приверженец старотурецкой группировки. Эта группировка знать не знает никаких новшеств в промышленности, и, поверишь ли, господин Керабан предпочитает дилижанс[37] железной дороге и тартану[38] пароходу. За те двадцать лет, что мы вместе ведем дела, я не замечал никаких перемен в его мышлении. Помню, три года назад он посетил меня в Роттердаме. Приехал в почтовой карете и вместо восьми дней потратил на езду целый месяц. Да, Бруно, за всю жизнь я видел много упрямцев, но такого — никогда.
— Он очень удивится, встретив вас здесь, в Константинополе, — заметил Бруно.
— Я думаю! — улыбнулся ван Миттен. — Мне так и хотелось — преподнести ему такой сюрприз. По крайней мере, в его компании мы окажемся в настоящей Турции. Да! Мой друг Керабан никогда не согласится надеть снова костюм Низама, синий сюртук и красную феску[39] этих новых турок.
— Когда они снимают свою феску, — засмеялся Бруно, — то становятся похожими на откупоренные бутылки.
— Ах, этот милый и неизменный Керабан! — сказал ван Миттен. — Помню, как он выглядел, когда был у меня, на другом краю Европы: расширяющийся тюрбан[40], желтый или коричневого цвета кафтан… В этом наряде я его увижу и здесь!
— Так одеваются торговцы финиками! — воскликнул Бруно.
— Да, но он мог бы продавать золотые финики и даже питаться исключительно ими. Вот так! Керабан занимался коммерцией, вполне подобающей для этой страны. Торговец табаком! Да и как не разбогатеть в городе, где все курят с утра до вечера и даже с вечера до утра?
— Как, курят? — удивился Бруно. — Но где это вы видите курящих, хозяин? Никто не курит, никто! А я-то ожидал, что всюду перед дверями будут группы турок с наргиле[41] или с длинными вишневыми трубками в руках и с янтарными мундштуками во рту. Но нет! Ни одной сигары, ни хотя бы сигареты…
— Действительно, что-то непонятное, Бруно, — согласился ван Миттен, — в Роттердаме на улицах табачного дыма больше, чем в Константинополе!
— А вы уверены, хозяин, — спросил Бруно, — что мы не ошиблись дорогой? Это в самом деле столица Турции? Вдруг мы уехали в противоположную сторону, и это вовсе не Золотой Рог, а Темза со своими бесчисленными пароходами? Смотрите, вон та мечеть — не Святая София, а Святой Павел! Это Константинополь? Никоим образом! Это Лондон!
— Успокойся, Бруно, — похлопал слугу по плечу ван Миттен. — Мне кажется, что ты слишком нервничаешь для голландца. Будь спокойным, терпеливым, флегматичным, как твой хозяин, и не удивляйся ничему. Мы покинули Роттердам из-за… того, что ты знаешь…
— Да! Да! — поспешил согласиться Бруно.
— Мы добирались через Париж, Сен-Готард[42], Италию, Бриндизи[43], Средиземное море, и нет оснований полагать, что транспортный пакетбот[44] доставил нас после восьмидневной поездки на Лондонский мост, а не на мост Галаты.
— Однако… — попытался возразить слуга.
— Прошу, даже приказываю тебе не допускать таких шуток в присутствии моего друга Керабана. Обидится, чего доброго! Начнет спорить, заупрямится…
— Постараюсь, хозяин, — ответил Бруно. — Но раз уж нельзя здесь освежиться, то, я думаю, закурить трубку не возбраняется? Вы не возражаете?
— Нет, Бруно. Для меня, торговца табаком, нет ничего более приятного, чем вид человека с трубкой. Жаль, что природа дала нам только один рот. Правда, есть еще нос, чтобы нюхать табак…
— И зубы, чтобы его жевать, — дополнил Бруно. Разговаривая таким образом, он набил свою огромную трубку из раскрашенного фарфора, зажег и с видимым удовольствием сделал несколько затяжек.
В этот момент на площади появились уже знакомые нам приятели — турки, которые протестовали против ограничений рамадана. И тот из них, который не постеснялся закурить сигарету до заката, заметил Бруно, прогуливающегося с трубкой во рту.
— Ей-богу, — сказал он своему спутнику, — вот еще один из этих проклятых иностранцев, он осмеливается пренебречь запрещением Корана! Я этого не потерплю…
— Потуши, по крайней мере, свою сигарету, — заметил второй.
— Да.
И, отбросив сигарету, он направился прямо к достойному голландцу, никак не ожидавшему подобного вмешательства.
— С пушечным выстрелом, — процедил сквозь зубы турок и грубо вырвал у чужестранца трубку.
— Э, моя трубка! — запротестовал Бруно. Хозяин безуспешно пытался удержать его.
— С пушечным выстрелом, христианская собака!
— Сам ты — турецкая собака!
— Спокойно, Бруно, — урезонил его ван Миттен.
— Пусть он, по крайней мере, отдаст мою трубку! — кипятился Бруно.
— С пушечным выстрелом! — повторил турок в последний раз, и трубка исчезла в складках его кафтана.
— Пошли, Бруно, — сказал ван Миттен. — Никогда не нужно оскорблять обычаи страны, по которой путешествуешь.
— Воровские обычаи!
— Пошли, говорю я тебе. Мой друг Керабан не появится на этой площади раньше семи часов. Продолжим прогулку; придет время, и мы встретимся с ним.
И ван Миттен увлек за собой Бруно, вконец раздосадованного потерей трубки, которой он, как заядлый курильщик, очень дорожил.
А в это время турки говорили друг другу:
— Эти иностранцы думают, что им все можно.
— Даже курить до захода солнца!
— Дать тебе огня? — спросил один.
— Давай, — ответил другой и зажег сигарету.
Глава вторая,
в которой интендант[45] Скарпант и капитан Ярхуд разговаривают о планах, которые полезно знать.
В то время, как ван Миттен и Бруно шли по набережной Топ-Хане, некий турок появился со стороны моста Валиде-Султане, соединяющего Галату через Золотой Рог со Старым Стамбулом, быстро обогнул угол мечети Махмуда и остановился на площади.
Было шесть часов. В четвертый раз за день муэдзины[46] поднялись на балконы минаретов. Их голоса медленно плыли над городом, призывая правоверных к молитве и посылая в пространство священную формулу: «Ля иляха илля-ллах ва Мухаммадум расулю-ллах!» («Нет никакого божества, кроме Аллаха, и Мухаммад — посланник Аллаха!»)
Турок оглядел редких прохожих, а затем стал нетерпеливо всматриваться в улицы, выходящие на площадь, стараясь увидеть, не идет ли тот, кого он ожидал.
— Этот Ярхуд не придет-таки, — бормотал турок. — Хотя и знает, что обязан быть здесь в условленный час.
Он прошелся еще несколько раз по площади, приблизился к северному углу казармы Топ-Хане, посмотрел в сторону мастерской по литью пушек, топнул ногой как человек, который не любит ждать, и вернулся к кофейне, в которой напрасно надеялись отдохнуть ван Миттен и его слуга. Затем незнакомец присел к одному из свободных столиков, ничего не прося у хозяина, так как хорошо знал, что еще не наступило время для подачи разнообразных напитков оттоманских винокурен.
Этот турок был не кем иным, как Скарпантом, интендантом господина Саффара — богатого оттомана, жившего в Трапезунде[47], той части азиатской Турции, которая образует южное побережье Черного моря. Господин Саффар путешествовал по южным районам России. Побывав затем и на Кавказе, он собирался вернуться в Трапезунд, в полной уверенности, что Скарпант, которому он не так давно кое-что поручил, добился полного успеха. Саффар никогда и мысли не допускал, что кто-либо из служащих может потерпеть неудачу при выполнении важного задания. Его задания! Он любил показывать могущество, которое всюду и везде давали ему деньги, что называется, распускал павлиний хвост, с той характерной хвастливостью, что присуща малоазиатским набобам. Интендант его, о котором уже упоминалось, был, в свою очередь, человеком дерзким, не отступающим ни перед какими препятствиями, готовым правдами и неправдами удовлетворять любые прихоти своего хозяина. Именно для этого Скарпант прибыл в этот день в Константинополь и ждал теперь в условленном месте некоего мальтийского[48] капитана — субъекта такого же сорта, что и он сам.
Этот капитан, по имени Ярхуд, командовал тартаной «Гидара» и регулярно плавал по Черному морю. Кроме обычной коммерции, он занимался и гораздо менее благовидной торговлей — черными рабами из Судана, Эфиопии или Египта, а также черкесскими и грузинскими невольниками. Рынок для такого рода сделок находился как раз в квартале Топ-Хане, а правительство очень мило закрывало на это глаза.
Итак, Скарпант ждал, а Ярхуд все не появлялся. И хотя внешне интендант продолжал оставаться невозмутимым, в нем уже начинало закипать раздражение.
— Где эта собака? — бормотал он. — Не наткнулся ли капитан на какую-нибудь неожиданность? Он должен был покинуть Одессу позавчера! Ему полагалось бы уже быть здесь, на этой площади, в этой кофейне, в этот назначенный мною час!
Пока он все больше выходил из себя, на углу набережной появился некий мальтийский моряк. Это и был Ярхуд. Посмотрев направо и налево, он заметил Скарпанта. Тот сразу же поднялся, вышел из кофейни и направился к капитану «Гидары».
— Я не привык ждать, Ярхуд! — сказал Скарпант тоном, в значении которого невозможно было ошибиться.
— Пусть Скарпант простит меня, — ответил Ярхуд, — но я прилагал все старания, чтобы не опоздать.
— Ты только что прибыл?
Только что, по железной дороге Янболи — Адрианополь[49], и если бы поезд не задержался…
— Когда ты покинул Одессу?
— Позавчера.
— А твое судно?
— Оно ожидает меня в порту Одессы.
— Ты уверен в экипаже?
— Абсолютно уверен! Это — мальтийцы, как и я, преданные тем, кто им хорошо платит.
— Они будут тебе повиноваться?
— В этом, как и во всем.
— Хорошо! Какие у тебя новости, Ярхуд?
— Одновременно хорошие и плохие, — ответил капитан, немного понизив голос.
— Выкладывай сначала плохие, — потребовал интендант.
— Молодая Амазия, дочь банкира Селима из Одессы, должна скоро выйти замуж. Теперь из-за этого будет гораздо больше трудностей с похищением. И нужно поторопиться!
— Этого замужества не будет, Ярхуд! — воскликнул Скарпант немного громче, чем следовало. — Нет, клянусь Мухаммадом[50], оно не состоится!
— Я не говорил, что оно состоится, Скарпант, — ответил Ярхуд, — а лишь сказал, что замужество должно состояться.
— Пусть так, — ответил интендант, — но не пройдет и трех дней, как господин Саффар узнает, что эта девушка отплыла в Трапезунд. Если это кажется тебе невозможным…
— Я не утверждаю, что это невозможно, Скарпант. Деньги и дерзость чего не смогут? Просто теперь обделать дельце будет труднее, вот и все.
— Труднее! — ухмыльнулся Скарпант. — Разве это — первый случай, когда турецкая или русская девица исчезает из отчего дома в Одессе?
— И не последний, — заметил Ярхуд. — Или капитан «Гидары» ничего не смыслит в своем деле.
— А кто собирается жениться на молодой Амазии? — спросил Скарпант.
— Один молодой турок из ее же рода.
— Одесский турок?
— Нет, константинопольский.
— Его имя?..
— Ахмет.
— И что он представляет собой?
— Племянник и единственный наследник богатого негоцианта из Галаты, господина Керабана.
— А чем занимается этот Керабан?
— Торговлей табаком. На этом он сколотил неплохие денежки. В Одессе у него есть корреспондент[51] — банкир Селим. Они ведут вместе большие дела, частенько посещают друг друга. Благодаря этому Ахмет и познакомился с Амазией. Ну а дальше отец девушки и дядя молодого человека решили их поженить.
— Где должна состояться свадьба? — спросил Скарпант. — Здесь, в Константинополе?
— Нет, в Одессе.
— И когда?
— Не знаю, но молодой Ахмет нетерпелив — боюсь, это произойдет со дня на день.
— Значит, нам нельзя терять ни минуты?
— Ни единой!
— Где сейчас Ахмет?
— В Одессе.
— А Керабан?
— В Константинополе.
— Ты видел этого молодого человека в Одессе?
— Конечно, я не упустил случая с ним познакомиться.
— Ну и каков он?
— Это юноша, как будто созданный, чтобы нравиться. И он действительно нравится дочери банкира Селима.
— Как считаешь, стоит нам его опасаться?
— Говорят, он очень смел и решителен. Так что, сами понимаете, невесту увести из-под носа у него будет трудновато…
— Что же, он богат, независим? — продолжал допытываться Скарпант, которого молодой Ахмет определенно беспокоил.
— Нет, Скарпант, — ответил Ярхуд. — Жених зависит от своего дяди и опекуна, господина Керабана, который любит его как сына и вскоре сам отправится в Одессу для заключения этого брака.
— Нельзя ли задержать отъезд Керабана?
— Чего бы лучше! Это развязало бы нам руки… Только вот как задержишь?
— Это ты обязан придумать, Ярхуд, — заключил Скарпант. — В любом случае, по желанию господина Саффара, молодая Амазия должна быть перевезена в Трапезунд. Не впервые тартане «Гидара» посещать побережье Черного моря по его делам. И ты знаешь, как он оплачивает услуги…
— Знаю, Скарпант.
— В Одессе господин Саффар всего на миг увидел эту девушку, но ее красота поразила его. Ей не придется жаловаться, когда она сменит дом банкира Селима на дворец в Трапезунде! Амазия будет похищена если не тобой, Ярхуд, то кем-либо другим.
— Мной! Можете быть уверены! — горячо воскликнул мальтийский капитан. — Я сообщил вам плохие новости, но есть и хорошие.
— Говори, — приказал Скарпант, в раздумье пройдясь туда-сюда и снова вернувшись к Ярхуду.
— Если замышляемая свадьба затрудняет похищение девицы, поскольку Ахмет все время при ней, то она же предоставляет удобный случай проникнуть в дом банкира Селима. Я ведь не только капитан, но и торговец. На «Гидаре» богатый груз: шелковые ткани, венгерки[52] из куницы и соболя, парча[53], украшенная алмазами, позументы[54], сработанные лучшими золотых дел мастерами Малой Азии; сотни вещиц, могущих заинтересовать молодую девушку. Невесты легко поддаются таким соблазнам накануне свадьбы, и я, без сомнения, смогу завлечь ее на борт. А дальше мы воспользуемся благоприятным ветром и выйдем в море, прежде чем узнают о похищении.
— Хорошо придумано, Ярхуд, — похвалил Скарпант, и я не сомневаюсь в твоем успехе. Но все это должно быть проделано в строжайшей тайне.
— Не беспокойтесь, Скарпант, — ответил Ярхуд.
— У тебя достаточно денег?
— Да. И всегда будет хватать при таком великодушном господине, как ваш.
— Не теряй времени. Ведь если состоится свадьба, Амазия станет женой Ахмета. А это совсем не то, на что рассчитывает господин Саффар.
— Понятное дело.
— Итак, как только дочь банкира Селима окажется на борту «Гидары», ты отплывешь?
— Да, я постараюсь дождаться устойчивого западного бриза.
— И сколько тебе, Ярхуд, понадобится времени, чтобы доплыть из Одессы в Трапезунд?
— Если считать возможные задержки, летние штили и частые на Черном море перемены направления ветров, то, думаю, недели три.
— Хорошо! — похвалил Скарпант. — К этому времени я вернусь в Трапезунд и мой хозяин тоже не замедлит прибыть.
— Я надеюсь оказаться там раньше вас.
— Приказы господина Саффара недвусмысленны и предписывают тебе оказывать этой девушке должное уважение. Никаких грубостей и насилия, когда она будет на борту.
— Уважение будет оказано подобающее — как если бы это был сам господин Саффар.
— Рассчитываю на твое рвение, Ярхуд.
— Оно полностью в вашем распоряжении, Скарпант.
— И на твою ловкость.
— Я был бы более уверен в успехе, — заметил Ярхуд, — если бы свадьба была отсрочена. А это стало бы возможным, если бы что-то помешало немедленному отъезду господина Керабана.
— Ты его знаешь, этого торговца?
— Всегда нужно знать своих врагов или тех, кто должен ими стать, — ответил мальтиец. — Поэтому, когда я прибыл сюда, моей первой заботой было заглянуть в его галатскую контору под предлогом делового визита.
— Ты его видел?
— Какое-то мгновение, но этого хватило и…
В этот момент Ярхуд неожиданно придвинулся к Скарпанту и тихо сказал ему:
— Скарпант, вот странный случай. А может быть, и счастливая встреча.
— В чем дело?
— Этот толстый человек, что спускается по улице Пера в сопровождении слуги…
— Уж не он ли это?
— Он самый, Скарпант, — ответил капитан. — Давайте будем держаться в стороне и не упускать их из виду. Знаю, что каждый вечер он возвращается в свой дом в Скутари. Чтобы выяснить, как скоро он собирается уехать, я, если потребуется, отправлюсь за ним на другую сторону Босфора.
Смешавшись с прохожими, число которых на площади Топ-Хане непрерывно возрастало, Скарпант и Ярхуд последовали за Керабаном на таком расстоянии, чтобы можно было слышать, о чем он говорит. Это было достаточно легко, так как «господин Керабан», как его обычно называли в Галате, разговаривал громким голосом, отнюдь не стараясь скрыть, что он — значительная персона.
Глава третья,
в которой господин Керабан очень удивлен встречей со своим другом ван Миттеном.
Господин Керабан не зря считался, что называется, «человеком видным». Взглянувший на его лицо дал бы ему сорок лет, оценив его дородность — добавил бы еще десяток годков, а на самом деле тому было сорок пять. Взгляд — умный, осанка — величественная. Уже седеющая небольшая раздвоенная борода и черные острые глаза, столь же чуткие к различным движениям души, как чаша ювелирных весов к минимальной разнице в весе. Добавим к этому волевой квадратный подбородок, нос, подобный клюву попугая, который отлично гармонировал с остротой взгляда. Сжатые губы открывались лишь для того, чтобы явить ослепительную белизну зубов. Хорошо очерченный высокий лоб пересекала вертикальная складка — истинная морщина упрямства между черными бровями. Все это вместе создавало облик человека оригинального, независимого, и выдающегося, которого нельзя уже было забыть, даже если вы увидели его только один раз.
Что же до костюма господина Керабана, то он был в стиле старых турок, оставшихся верными одежде времен янычар[55]: широкий тюрбан, обширные развевающиеся штаны, ниспадающие на сафьяновые пабуджи[56]; жилет, украшенный шелковым галуном и большими, в форме фасеток[57], пуговицами; пояс из шали, гармонично охватывающий живот, и, наконец, светло-желтый кафтан с роскошными складками. В общем, в этой старинной манере одеваться не было ничего европейского, и она сильно контрастировала с тем, как выглядит одежда жителей Востока в наше время.
Это было своеобразным протестом против вторжения индустриализации, в пользу местных обычаев; вызовом, брошенным постановлениям султана Махмуда[58], властно предписывавшим носить современный османский костюм.
Излишне добавлять, что слуга господина Керабана, юноша двадцати пяти лет по имени Низиб, также носил старинную турецкую одежду. Ни в чем не противореча своему хозяину — самому упрямому из людей, — он следовал его примеру и в этом. Преданный слуга вообще был полностью лишен какой-либо самостоятельности. Он всегда говорил «да» заранее и, как эхо, бессознательно повторял концовки фраз грозного негоцианта — самый надежный способ быть того же мнения, что и хозяин, и не слышать его резких окриков, на которые господин Керабан был очень щедр.
Хозяин и слуга вышли на площадь Топ-Хане по одной из узких, покрытых рытвинами улиц, которые спускались из предместья Пера. По своему обыкновению господин Керабан говорил громким голосом, нимало не заботясь, что его могут слышать посторонние.
— Ну нет! — сказал он. — Да сохранит нас Аллах[59], но со времен янычар каждый имеет право действовать, как ему нравится, когда наступает вечер. Нет! Я не подчинюсь их новым полицейским правилам и буду ходить по улицам без фонаря в руках, если мне это нравится, даже рискуя свалиться в какую-нибудь яму или быть укушенным за икры бродячей собакой.
— Бродячей собакой!.. — повторил, как эхо, Низиб.
— Тебе незачем утомлять мой слух своими глупыми замечаниями, или, клянусь Мухаммадом, я так вытяну твои уши, что тебе позавидует любой осел со своим хозяином.
— Со своим хозяином… — привычно повторил слуга без тени обиды или укора.
— И если начальник полиции оштрафует меня, — продолжал наш упрямый герой, — то я заплачу. Если он отправит меня в тюрьму, я пойду туда. Но не уступлю ни в этом, ни в чем-либо другом!
Низиб кивнул в знак согласия. Он был готов последовать за хозяином и в тюрьму, если бы дошло до ареста.
— А! Господа новые турки, — воскликнул господин Керабан, увидев проходящих мимо константинопольцев, одетых в прямые рединготы[60] и красные фески. — А! Вы хотите устанавливать законы и нарушать древние обычаи? Отлично! Пусть бы я даже был последним протестующим… Низиб, ты сказал моему каиджи, чтобы он находился со своим каиком у лестницы Топ-Хане с семи часов?
— С семи часов!
— Почему его там нет?
— Почему его там нет? — повторил Низиб.
— Правда, еще нет семи часов.
— Нет семи часов.
— А ты откуда это знаешь?
— Потому что вы говорите, хозяин.
— А если бы я сказал, что сейчас пять часов?
— То было бы пять часов, — ответил Низиб.
— Глупее не бывает.
— Нет, глупее не бывает.
— Этот парень, — пробормотал Керабан, — стараясь быть ангелом, кончит тем, что мне осточертеет!
В этот момент ван Миттен и слуга снова появились на площади, и Бруно повторил несколько раз разочарованным тоном:
— Уйдем отсюда, хозяин, уйдем отсюда и уедем с первым же поездом. Ох уж этот Константинополь! Это столица Повелителя верующих? Никогда не поверю.
— Спокойно, Бруно, спокойно! — одернул слугу ван Миттен.
Наступал вечер. Солнце, прячась за холмами древнего Стамбула, начало погружать площадь Топ-Хане в сумерки. Так что ван Миттен не узнал господина Керабана, который шел навстречу по направлению к набережной Галаты. Случилось даже так, что, следуя в противоположных направлениях, оба столкнулись, стараясь обойти друг друга то слева, то справа. Получилось забавное полуминутное колебание.
— Эй, сударь! Я пройду, — сказал Керабан, который был не из тех, что уступают хотя бы пядь занятого пространства.
— Но…. — сказал ван Миттен, безуспешно стараясь вежливо посторониться.
— Я все же пройду!
— Но… — повторил ван Миттен.
Внезапно узнав того, с кем имел дело, он воскликнул:
— О, мой друг Керабан!
— Вы?.. Вы!.. Ван Миттен! — вскричал Керабан в крайнем удивлении. — Вы! Здесь? В Константинополе?
— Я самый!
— С какого времени?
— С сегодняшнего утра.
— И ваш первый визит не ко мне?
— Напротив, как раз к вам, — заулыбался голландец. — Я уже заходил в контору, но вас там не было, и мне сказали, что в семь часов я найду господина Керабана на этой площади…
— Вам верно сказали, ван Миттен! — воскликнул торговец, пожимая руку своего роттердамского корреспондента с радостью, похожей на буйство. — А! Мой дорогой, никогда, нет, никогда я не ожидал увидеть вас в Константинополе! Почему было не написать мне?
— Я покинул Голландию так внезапно.
— Деловая поездка?
— Нет… развлекательная. Я не был знаком ни с Константинополем, ни с Турцией, и захотелось вернуть здесь ваш роттердамский визит ко мне.
— Это хорошо! Но, по-моему, я не вижу с вами мадам ван Миттен?
— Действительно… она осталась дома, — проговорил голландец не без некоторого колебания. — Мадам ван Миттен не любит переездов. Поэтому пришлось приехать только с моим лакеем Бруно.
— А! Этот малый? — Господин Керабан слегка кивнул в сторону Бруно, который как раз собрался поклониться ему на турецкий манер и поднес обе руки к шляпе, наподобие двух ручек амфоры[61].
— Да, — продолжил ван Миттен, — этот добрый малый уже хотел покинуть меня и уехать в…
— Уехать! — воскликнул Керабан. — Уехать без моего разрешения?
— Да, друг. Он ожидал увидеть веселой и радостной эту столицу Османской империи…
— Гробница! — заметил Бруно. — В магазинах — никого. На площади ни одной коляски. Лишь тени, которые ходят по улицам и воруют вашу трубку…
— Но сейчас — рамадан, ван Миттен! — сказал Керабан. — Самый разгар рамадана!
— А! Вот оно что! — оживился Бруно. — Тогда все ясно. Впрочем, не совсем… Что это такое, рамадан?
— Время поста и воздержания, — ответил Керабан. — На всем его протяжении запрещается пить, курить и есть между восходом и заходом солнца. Но через полчаса, с пушечным выстрелом, который возвестит о конце дня…
— А! Вот что они хотели сказать своим «пушечным выстрелом»! — воскликнул Бруно.
— В течение всей ночи люди вознаградят себя за дневное воздержание.
— Итак, — повернулся Бруно к Низибу, — вы с утра еще ничего не ели, потому что сейчас рамадан?
— Потому что сейчас рамадан, — машинально ответил слуга Керабана.
— Э, вот что заставило бы меня похудеть! — воскликнул Бруно. — Вот что стоило бы мне фунта в день, как минимум!
— Как минимум, — повторил Низиб.
— Ну, вы увидите все, ван Миттен, с заходом солнца, — продолжил Керабан, — и придете в восхищение! Это будет магическое перевоплощение мертвого города в живой! А, господа новые турки, вы еще не сумели заменить эти старинные обычаи своими абсурдными нововведениями! Коран стойко держится против ваших глупостей. Пусть покарает вас Мухаммад!
— Прекрасно, друг Керабан, — одобрил ван Миттен, — я вижу, что вы по-прежнему верны древним обычаям.
— Это больше чем верность, ван Миттен, это упорство! Но скажите, мой достойный друг, вы ведь останетесь на несколько дней в Константинополе?
— Да… и даже…
— Отлично, вы — мой! Я завладею вами! Вы меня больше не покинете.
— Пусть так! Я буду ваш!
— А ты, Низиб, займешься этим парнем, — прибавил Керабан, указывая на Бруно. — Я поручаю тебе, в частности, изменить его представление о нашей чудесной столице.
Низиб согласно кивнул и увлек Бруно в центр толпы, которая становилась все более густой.
— А знаете! — воскликнул неожиданно господин Керабан. — Вы вовремя прибыли, ван Миттен! Через шесть недель вы не нашли бы меня в Константинополе.
— Вас, Керабан?
— Меня. Я уехал бы в Одессу.
— Вот как?
— Отлично! Если вы все еще будете здесь, то мы поедем вместе! В самом деле, почему бы вам не сопровождать меня?
— Но… — замялся ван Миттен.
— Вы будете меня сопровождать, говорю вам!
— Я рассчитывал отдохнуть здесь от поездки, которая была чересчур стремительной…
— Пусть так! Отдохнете здесь, а затем в течение целых трех недель — в Одессе!
— Друг Керабан, вы считаете…
— Я так считаю, ван Миттен! Вы не собираетесь, полагаю, противоречить мне сразу же, с самого приезда? Ведь когда я прав, то легко не уступаю.
— Да… Я знаю, — засмеялся ван Миттен.
— Впрочем, — сказал Керабан, — вы не видели моего племянника Ахмета. Нужно вас познакомить с ним.
— Вы как-то упоминали о вашем племяннике…
— Можно сказать, моем сыне, ван Миттен, поскольку у меня нет детей. Дела, знаете, дела! Я никогда не мог найти и пяти минут, чтобы жениться.
— Минуты достаточно, — с видом знатока заключил ван Миттен. — Часто даже и минуты излишне много.
— Таким образом, вы встретитесь с Ахметом в Одессе, — сказал Керабан. — Это очаровательный юноша! Он ненавидит дела, немного художник, немного поэт, но очарователен… очарователен! Совсем непохож на своего дядю, однако беспрекословно повинуется ему.
— Друг Керабан…
— Да, да. Я знаю ему цену. Из-за его свадьбы мы и поедем в Одессу.
— Его свадьбы?
— Именно так. Ахмет женится на милой девушке, молодой Амазии, дочери моего банкира Селима, истинного турка. У нас состоятся празднества. Получится великолепно! Вы там будете.
— Но я предпочел бы… — задумчиво начал ван Миттен. Он хотел привести еще одно, последнее возражение.
— Договорились! — хлопнул в ладоши Керабан. — Вы ведь не намерены оказывать мне сопротивление, верно?
— Я хотел бы… — опять тянул с ответом ван Миттен.
— Вам не удастся!
Скарпант и мальтийский капитан, которые прогуливались в глубине площади, приблизились как раз в тот момент, когда господин Керабан говорил своему спутнику:
— Решено! Через шесть недель — самое позднее — мы оба отправимся в Одессу!
— И свадьба состоится? — спросил ван Миттен.
— Сразу же по нашему прибытию, — ответил Керабан.
Ярхуд наклонился к уху Скарпанта.
— Шесть недель. У нас есть еще время для действий.
— Да, но чем раньше, тем лучше, — напомнил Скарпант. — Не забывай, Ярхуд, что до исхода шести недель господин Саффар вернется в Трапезунд.
И оба продолжили прогулку, приглядываясь и прислушиваясь.
А в это время господин Керабан разговаривал с ван Миттеном:
— Мой друг Селим, всегда спешащий, и племянник Ахмет, еще более нетерпеливый, готовы были сыграть свадьбу немедленно. И я должен сказать, что у них есть для этого весомое основание. Нужно, чтобы дочь Селима вышла замуж до достижения семнадцати лет, или она потеряет около ста тысяч турецких лир[62], которые старая сумасшедшая тетка завещала ей при этом условии. Но такой пожар ни к чему, семнадцать лет ей исполнится только через шесть недель. Поэтому я их урезонил, говоря: «Нравится вам это или нет, но свадьба не состоится до конца будущего месяца».
— И ваш друг Селим сдался? — спросил ван Миттен.
— Естественно.
— А молодой Ахмет?
— Не так легко, — улыбнулся Керабан. — Он обожает милую Амазию, день и ночь мечтает о ней. К тому же парень не занят делами… Да вам нетрудно это понять, друг ван Миттен. Вы ведь женились на прекрасной мадам ван…
— Мой друг Керабан, — сказал голландец. — Это было уже так давно, что я почти и не помню.
— Но в самом деле, друг ван Миттен, если в Турции непристойно спрашивать у турка, как поживают женщины его гарема, то это не запрещено по отношению к иностранцу… Как мадам ван Миттен чувствует себя?
— О, очень хорошо, очень хорошо! — ответил ван Миттен, которого вежливость его друга несколько смущала. — Да… очень хорошо! Постоянно хворает… Вы знаете… женщина.
— Ну нет, я не знаю! — воскликнул господин Керабан, громко смеясь. — Женщина? Никогда! Вот дела — сколько угодно! Табак из Македонии для тех, кто курит сигареты, табак из Персии — для наших курильщиков наргиле. И корреспондентов из Салоник, Эрзерума, Латакии, Бафры, Трапезунда, не считая моего друга ван Миттена из Роттердама. За тридцать лет я отправил столько тюков табака в четыре конца Европы!
— И столько курили, — подсказал ван Миттен.
— Да, курил… как заводская труба. И я вас спрашиваю: есть ли что-нибудь лучшее в мире?
— Конечно нет, друг Керабан.
— Вот уж сорок лет, как я курю, друг ван Миттен, и верен своему чубуку и наргиле! Вот и весь мой «гарем». Нет женщины, которая стоила бы трубки табака!
— Вполне согласен с вашим мнением, — заметил голландец.
— Кстати, — снова заговорил Керабан, — коль скоро вы мне попались, я вас больше не покину. Сейчас подойдет каик, чтобы перевезти нас через Босфор. Будем обедать на моей вилле в Скутари…
— Но…
— Да, я вас увожу, повторяю. Вы что же, собираетесь теперь церемониться со мной?
— Нет, я согласен, друг Керабан! — поспешил согласиться ван Миттен. — Принадлежу вам душой и телом.
— Вы увидите, — продолжал негоциант, — какое очаровательное жилище я себе создал под черными кипарисами, посреди склона холма Скутари, с видом на Босфор и всю панораму Константинополя. А! Настоящая Турция находится все же на азиатском берегу! Здесь — Европа, а там Азия. И наши прогрессисты в рединготе еще далеки от того, чтобы насадить и на том берегу свои идеи. Они утонули бы, пересекая Босфор. Итак, мы обедаем вместе!
— Вы делаете со мной все что хотите.
— И не надо этому мешать! — притворно нахмурился Керабан.
Затем, повернувшись, он спросил:
— А где же мой слуга? Низиб! Низиб!
Лакей, который прогуливался вместе с Бруно, услышал голос хозяина, и тут же оба прибежали.
— Ну, — спросил Керабан, — этот каиджи так и не появится со своим каиком?
— Со своим каиком… — повторил Низиб.
Я непременно прикажу бить его палками! — воскликнул Керабан. — Да, сто ударов палками.
— О! — воскликнул ван Миттен. Пятьсот!
— О! — покачал головой Бруно.
— Тысяча! Если мне противоречат!
— Господин Керабан, — заговорил Низиб, — я вижу вашего каиджи. Он только что отплыл от Серая и через десять минут причалит к лестнице Топ-Хане.
Негоциант выходил из себя, сжимал от нетерпения руку ван Миттена. А тем временем Ярхуд и Скарпант непрерывно наблюдали за ним.
Глава четвертая,
в которой господин Керабан, упрямясь еще более, чем обычно, оказывает сопротивление оттоманским властям.
Тем временем каиджи прибыл и уведомил господина Керабана, что каик ждет его у лестницы.
Тысячи каиджи насчитываются на водах Босфора и Золотого Рога. Их двухвесельные лодки из буковых или кипарисовых досок, с резьбой и раскраской внутри, ровно удлиненные спереди и сзади, чтобы двигаться, при необходимости, в любом направлении, похожи на полозок в пятнадцать-двадцать футов[63] длиной. Необычайно приятно — наблюдать, с какой быстротой эти стройные суденышки скользят, пересекают путь, обгоняют друг друга в этом великолепном проливе, разделяющем побережья двух континентов. Солидная корпорация каиджи занимается своим ремеслом на просторах от Мраморного моря до замка Европы и замка Азии, которые возвышаются один напротив другого на севере Босфора.
Чаще всего каиджи — это милые люди в фесках, одетые в буруджук, нечто вроде рубашки из шелка, в йелек яркой расцветки, обшитый сутажом их золотой вышивки, и штаны из белой хлопковой ткани.
Если каиджи господина Керабана — тот, который каждый вечер отвозил его в Скутари, а утром доставлял назад, если этот человек был плохо встречен из-за опоздания на несколько минут, то что теперь делать! Флегматичный моряк, впрочем, не слишком и взволновался, хорошо понимая, что такому превосходному клиенту следует дать покричать. Поэтому он ничего не ответил, а только указал на пришвартованный к лестнице каик.
Итак, господин Керабан направлялся к лодке. Его сопровождал ван Миттен, а за ним следовали Бруно и Низиб. В это время в толпе на площади Топ-Хане произошло некоторое замешательство.
Негоциант остановился:
— В чем дело?
И тут на площади появился начальник полиции квартала Галата, окруженный стражниками, которые раздвигали толпу. Его сопровождали барабанщик и трубач. Один — производил грохот, другой — призывно трубил, и толпа, состоявшая из разнородных (азиатских и европейских) зевак, мало-помалу стала успокаиваться.
— Еще какое-нибудь бессмысленное воззвание! — пробормотал господин Керабан тоном человека, который везде и всегда умеет постоять за свои права.
Начальник полиции достал бумагу с печатями и громким голосом зачитал следующее постановление:
«По приказу Мушира, председателя Совета полиции, начиная с сего дня установлен налог в десять пара[64] на каждого, кто захочет переправиться через Босфор, направляясь из Константинополя в Скутари или из Скутари в Константинополь, как на каиках, так и на других парусных или паровых судах. Отказавшийся уплатить этот налог подлежит тюремному заключению и штрафу.
Составлено во дворце шестнадцатого числа текущего месяца.
Подписано: Мушир».
Недовольный ропот раздался в ответ на новый побор, равный приблизительно пяти французским сантимам с человека.
— Хорош новый налог! — воскликнул один старый турок, который, однако, давно уже должен был бы привыкнуть к финансовым капризам падишаха.
— Десять пара! Цена полчашки кофе! — подхватил другой.
Начальник полиции, хорошо знавший, что в Турции, как и всюду, пороптав, все же будут платить, уже собрался уйти с площади, когда господин Керабан приблизился к нему.
— Итак, новый налог для всех, кто захочет переправиться через Босфор? — спросил торговец.
— По указанию Мушира, — ответил начальник полиции.
Затем он прибавил:
— Как? Это возражает богач Керабан?
— Да, богач Керабан.
— У вас-то ведь все благополучно, господин негоциант.
— Все благополучно… как и у собирателей налогов. Итак, это постановление подлежит исполнению?
— Безусловно… Сразу же после оглашения.
— И если сегодня вечером я захочу отправиться… в Скутари на моем каике, как я делаю это обычно?..
— Вы заплатите десять пара.
— И раз я переправляюсь через Босфор и утром и вечером?
— То это будет стоить вам двадцать пара в день, — разъяснил начальник полиции. — Безделица для богача Керабана.
— В самом деле?
— Мой хозяин, кажется, ввязывается в плохое дело, — прошептал Низиб Бруно.
— Нужно, чтобы он уступил.
— Он? Ну, вы его не знаете!
Господин Керабан скрестил руки и, смотря прямо в глаза начальнику полиции, сказал ему свистящим голосом, в котором уже начинало проскальзывать раздражение:
— Отлично. Каиджи только что сказал, что каик в моем распоряжении. Поскольку я увожу с собой друга, его слугу и моего…
— Это составит сорок пара, — сообщил начальник полиции. — Еще раз повторяю, что у вас достаточно средств заплатить.
— Что у меня хватило бы средств платить не только сорок пара, а сотню, тысячу, сто тысяч и даже полмиллиона, — это возможно, но я ничего не буду платить и все-таки переправлюсь.
— Я сожалею, что приходится возражать господину Керабану, — сдержанно заметил начальник полиции, — но без оплаты никак нельзя.
— Обойдемся без оплаты!
— Нет!
— Да!
— Друг Керабан… — сказал ван Миттен в похвальном намерении призвать к разумности самого несносного из людей.
— Оставьте меня в покое, ван Миттен! — остановил гостя Керабан раздраженным голосом. — Этот налог несправедлив, это притеснение! Ему нельзя подчиняться. Никогда, никогда правительство старых гурок не посмело бы возложить налог на босфорские каики!
— Ну, а правительство, которое нуждается в деньгах, без колебаний сделало это, — ответил начальник полиции.
— Посмотрим! — воскликнул Керабан.
— Стража, — распорядился начальник полиции, обращаясь к сопровождавшим его солдатам, — позаботьтесь об исполнении нового постановления.
— Пошли, ван Миттен, — воскликнул Керабан, топнув ногой, — идем, Бруно, и следуй за нами, Низиб!
— Это будет стоить сорок пара… — повторил начальник полиции.
— Сорок палочных ударов! — воскликнул господин Керабан, чье возбуждение дошло до предела.
Однако в тот момент, когда торговец направился к лестнице Топ-Хане, стражники окружили его.
— Оставьте нас! — закричал он, отбиваясь. — Пусть никто из вас не тронет меня даже пальцем! Я пройду, клянусь Аллахом! И пройду, не выложив из кармана ни одного пара!
— Да, вы пройдете, но только через ворота тюрьмы, — предупредил начальник полиции, который начал раздражаться в свою очередь, — и заплатите хорошенький штраф, чтобы выйти оттуда!
— Я поеду в Скутари!
— Но не через Босфор. А так как туда нельзя добраться иначе…
— Вы полагаете? — ухмыльнулся, сжав кулаки, господин Керабан, при этом лицо его стало приобретать апоплексическую красноту. — Вы полагаете? Хорошо, я поеду в Скутари, не пересекая Босфора, и не буду платить…
— В самом деле?
— Даже если… Да! Даже если мне придется плыть по Черному морю.
— Семьсот лье, чтобы сэкономить десять пара! — воскликнул начальник полиции, пожимая плечами.
— Семьсот лье, тысяча, десять тысяч, сто тысяч лье, — распалял себя Керабан. — Даже если бы речь шла о пяти, двух, одном-единственном пара!
— Но, мой друг… — попытался вмешаться ван Миттен.
— Еще раз, оставьте меня в покос!.. — оборвал Керабан.
«Ну, вот он и разгорячился!» — сказал про себя Бруно.
— Я пройду по Турции, переберусь через Херсонес[65] пересеку Кавказ, перешагну Анатолию[66] и прибуду в Скутари, не заплатив ни одного пара вашего несправедливого налога!
— Ну, это мы еще увидим, — возразил начальник полиции.
— Все и так уже видно! — закричал господин Керабан в крайней ярости. — И я отправлюсь сегодня же вечером!
— Черт возьми! — воскликнул капитан Ярхуд, обращаясь к Скарпанту, который не упустил ни слова из неожиданно возникшего спора. — Это может помешать нашему плану!
— Действительно, — согласился Скарпант. — Упорствуя в своем намерении, этот упрямец проедет через Одессу. И если по пути он решит заключить этот брак!..
— Однако!.. — заговорил еще раз ван Миттен, желая помешать Керабану совершить подобное безумие.
— Оставьте меня, говорю я вам!
— А свадьба вашего племянника Ахмета?
— Как раз о ней и идет речь.
Скарпант отвел Ярхуда в сторону:
— Нельзя терять ни часа!
— Верно, — подтвердил мальтийский капитан, — и завтра утром я отправлюсь в Одессу по адрианопольской железной дороге.
Затем оба заговорщика удалились.
В этот момент господин Керабан резко повернулся к своему слуге.
— Низиб!
— Да, хозяин?
— Следуй за мной в контору!
— В контору, — ответил Низиб.
— И вы тоже, ван Миттен, — прибавил Керабан.
— Я?
— И вы, Бруно.
— Чтобы я…
— Мы отправимся вместе.
— Хм! — промычал Бруно, становясь внимательным.
— Да! Я пригласил вас пообедать в Скутари, — сказал господин Керабан ван Миттену, — и, клянусь Аллахом, вы будете обедать в Скутари… когда мы вернемся!
— Но это будет не так скоро… — улыбнулся голландец, смущенный предложением.
— Даже если это будет через месяц, через год, через десять лет! — отрезал Керабан тоном, не допускавшим ни малейшего возражения. — Но вы приняли приглашение на обед и будете у меня обедать!
— У этого обеда будет время остынуть, — пробормотал Бруно.
— Но позвольте, друг Керабан…
— Я ничего не позволю, ван Миттен. Пошли!
И торговец сделал несколько шагов в глубь площади.
— Невозможно сопротивляться этому дьявольскому человеку! — сказал ван Миттен Бруно.
— Как, хозяин? Вы собираетесь уступить подобному капризу?
— Поскольку я здесь, а не в Роттердаме, Бруно!
— Но…
— И раз я следую за своим другом Керабаном, то и тебе ничего другого не остается, как идти за мной.
— Вот еще осложнение!
— Поехали, — приказал господин Керабан.
Затем, обращаясь в последний раз к начальнику полиции, чья насмешливая улыбка легко могла вывести его из себя, он сказал:
— Я отправляюсь и, вопреки всем вашим постановлениям, доберусь до Скутари, не пересекая Босфора!
— Мне доставит большое удовольствие присутствовать при вашем возвращении из столь занимательного путешествия, — заверил начальник полиции.
— Для меня тоже будет истинной радостью встретиться с вами! — с трудом сдерживая себя, процедил господин Керабан.
— Но я предупреждаю вас, — прибавил начальник полиции, что, если налог будет еще в силе…
— Ну?
— То я не разрешу вам переправиться через Босфор, чтобы вернуться в Константинополь иначе, чем за десять пара с человека.
— Если ваш несправедливый налог будет еще в силе, — ответил господин Керабан тем же тоном, — то я сумею вернуться в Константинополь без того, чтобы вам достался хоть один пара из моего кармана!
После этого, взяв под руку ван Миттена, господин Керабан сделал знак Бруно и Низибу следовать за ними и исчез в толпе, которая криками приветствовала известного сторонника старотурецкой партии, столь упорного в защите своих прав.
В этот миг вдалеке раздался пушечный выстрел. Солнце только что скрылось за горизонтом Мраморного моря. Ежедневный пост был закончен, и верные подданные падишаха могли вознаградить себя за долгое дневное воздержание. Неожиданно, как по мановению жезла некоего мага[67] Константинополь преобразился. Тишина на площади Топ-Хане уступила место крикам радости и удовольствия. Сигареты, чубуки, наргиле зажглись, и воздух наполнился их ароматным дымом. В кофейни сразу же устремились проголодавшиеся и жаждущие посетители. Жаркое разных видов, йогурт[68], каймак[69], кебаб[70], лепешки из баклавы, рисовые биточки, завернутые в виноградные листья, вареная кукуруза, бочонки черных оливок и черной икры, плов с цыплятами, блины с медом, сиропы, шербеты, мороженое, кофе — все, что едят и пьют на Востоке, появилось на столиках в то время, как маленькие лампы, подвешенные на медных спиралях, поднимались и опускались, подергиваемые время от времени хозяевами кофеен. Затем, как по волшебству, старый город и новые кварталы ярко осветились. Мечети Святая София, Сулеймана, султана Ахмета, все религиозные и гражданские строения от Серай-Бурну до холмов Эюпа засверкали многоцветными огнями. Пылающими письменами, от минарета к минарету, были начертаны в темном небе строки Корана. Босфор, изборожденный каиками с причудливо раскачивающимися фонарями, искрился, как если бы в него попадали все звезды с небосвода. Дворцы по его краям, виллы на азиатском и европейском берегах, Скутари, старый Хризополис с домами, расположенными амфитеатром, казались теперь только линиями огней, удваивающимися отражением в воде.
Вдали слышались звуки барабана, лютни, гитары, табурки, ребеля и флейты, сливаясь с монотонным пением вечерних молитв. С верхушек минаретов взывали муэдзины. На трех нотах обращали они к праздничному городу свой последний призыв из одного турецкого и двух арабских слов: «Allah hӕkk kebir!» («Бог, Бог, велик!»)
Глава пятая,
в которой господин Керабан в присущей ему манере высказывается о том, как он понимает путешествия… и покидает Константинополь.
Европейская Турция в настоящее время делится на три главные части: Румелию (Фракия и Македония), Албанию и Фессалию, а также зависимую провинцию Болгария. По трактату 1878 года[71] королевство Румыния (Молдавия, Валахия и Добруджа), княжества Сербия и Черногория были объявлены независимыми, а Австрия оккупировала Боснию, за исключением санджака Нови-Пазар[72].
Поскольку господин Керабан решил проследовать по периметру Черного моря, то его маршрут к русской границе должен был проходить вдоль побережья Румелии, Болгарии и Румынии. Оттуда, пройдя через Бессарабию, Херсонес, Тавриду[73] или же через области черкесов по Кавказу и Закавказью, этот маршрут огибал северный и восточный берега древнего Понта Эвксинского[74] и доходил до пределов, отделяющих Россию от Оттоманской империи[75].
В дальнейшем по анатолийскому южному берегу Черного моря самый упрямый из османов рассчитывал достичь Босфора и Скутари, не заплатив нового налога.
Все вместе это составляет шестьсот пятьдесят турецких агачей — около двух тысяч восьмисот километров, или семьсот лье. Ну а поскольку с 17 августа до 30 сентября — сорок пять дней, то за сутки нужно было преодолевать по пятнадцати лье при желании вернуться хотя бы к самому крайнему сроку свадьбы Амазии. В случае опоздания — прощайте сто тысяч ливров тетки! Однако использование таких быстрых средств передвижения, как железная дорога, давало возможность легко выиграть время и сократить путь. Например, отправившись из Константинополя по железной дороге в Адрианополь и — по ее ответвлению — в Янболи. Далее к северу ветка из Варны в Рущук соединяется с железнодорожными путями Румынии, а они, в свою очередь, проходя по южной России через Яссы, Кишинев, Харьков, Таганрог, Нахичевань[76] упираются в Кавказский хребет. Наконец, ветка из Тифлиса в Поти проходит до побережья Черного моря почти у турецко-русской границы. Правда, затем в турецкой Азии нет железнодорожной связи с Бурсой, но уже от нее проходит ветка до Скутари.
Однако нечего было и надеяться довести все эти доводы до понимания господина Керабана. Забраться в железнодорожный вагон, ему, приверженцу старой Турции, который в течение сорока лет всеми силами сопротивлялся вторжению европейских изобретений? Никогда! Скорее он отправится пешком.
Неудивительно, что тем же вечером, как только ван Миттен и господин Керабан вошли в галатскую контору, между ними сразу начался спор по этому вопросу.
На первые же слова голландца об оттоманских и русских железных дорогах господин Керабан ответил сперва пожатием плеч, а затем решительным отказом.
— Однако!.. — задумчиво произнес ван Миттен, который уже заранее смирился со всем и настаивал лишь для формы.
— Если я сказал «нет», значит, «нет»! — возразил господин Керабан. — К тому же вы — мои гости, я отвечаю за вас и мне должна быть предоставлена свобода действий!
— Пусть так, — сказал ван Миттен, — но, может быть, вместо железной дороги найдется какое-нибудь простое средство вернуться в Скутари, не пересекая Босфора и не плавая по Черному морю?
— Ну и какое же? — спросил Керабан, хмуря брови. — Если оно хорошее, я приму, если плохое, откажусь.
— Оно превосходно. — ответил ван Миттен.
Говорите быстро! Нам нужно готовиться к отъезду. Нельзя терять ни часа!
— Друг Керабан, мы можем добраться до самого близкого к Константинополю черноморского порта, зафрахтовать пароход…
— Пароход! — воскликнул господин Керабан, которого слово «пар» обычно выводило из себя.
— Нет, судно. Простое парусное судно, — поспешил поправиться ван Миттен, — шебек[77], тартану, каравеллу — и направимся в один из портов Анатолии, например, Кирпих[78]! Оказавшись на этом пункте побережья, мы за один день спокойно доберемся по суше до Скутари и там весело выпьем за здоровье Мушира!
До этого момента господин Керабан слушал своего друга не перебивая, и тот, вероятно, уже воображал себе, что его предложение будет принято, тем более что оно никак не задевало хозяйского самолюбия. Однако после того, как господин Керабан его выслушал, глаза торговца загорелись, а пальцы сжались в кулаки.
— Итак, ван Миттен, — сказал он, — ваш совет сводится к тому, чтобы сесть на корабль на Черном море и, таким образом, не пересекать Босфор?
— По-моему, это было бы хорошим ходом, — ответил ван Миттен.
— Вы когда-нибудь слышали о морской болезни?
— Конечно, друг Керабан.
— И вы, разумеется, никогда от нее не страдали?
— Никогда! Впрочем, в такой короткой поездке…
— Такой короткой! — воскликнул Керабан. — Вы, кажется, сказали — «в такой короткой поездке»?
— Едва шестьдесят лье.
— Да пусть хоть пятьдесят, двадцать, десять, пять! — закричал господин Керабан, которого противоречие, как обычно, начинало раздражать. — Хоть два, хоть одно — все равно это слишком много для меня!
— Поразмыслите, однако…
— Вы знаете Босфор?
— Да.
— Перед Скутари он едва в пол-лье шириной?
— Действительно.
— Так вот, ван Миттен, стоит только подняться небольшому бризу[79], когда я передвигаюсь по морю в моем каике, и у меня морская болезнь.
— Морская болезнь?
— Она настигает меня в пруду. В ванной! Осмельтесь теперь еще говорить о таком пути! Или предлагать мне шебек, тартану, каравеллу и иную, подобную по мерзости посудину! Осмельтесь только!
Само собой, что достойный голландец не осмелился, и вопрос о плавании по морю был закрыт.
Какие же возможности для путешествия оставались еще? Поездки по собственно Турции достаточно затруднены, но вообще возможны. На дорогах существуют почтовые станции, и ничто не мешает путешествовать на лошади со своими припасами и проводником, если, конечно, не пытаться следовать за почтовым курьером, называемым «татарин», что было бы крайне утомительно. Разумеется, не собирался этого делать и господин Керабан. Да, он поедет быстро, но одновременно и комфортабельно. Вопрос был только в деньгах, а это, конечно, никак не могло остановить богатого негоцианта из Галаты.
— Хорошо, — сказал, покорившись, ван Миттен. — Но раз мы не поедем ни по железной дороге, ни на корабле, то как же будем передвигаться, друг Керабан?
— В почтовой карете.
— С вашими лошадьми?
— С лошадьми почтовых станций.
— Да, если они будут в вашем распоряжении на всем пути!..
— Будут!
— Это вам дорого обойдется!
— Это мне обойдется во столько, во сколько обойдется! — ответил господин Керабан, опять начиная приходить в возбужденное состояние.
— Вы не отделаетесь тысячью турецких лир, а возможно, и полутора тысячами!
— Пусть так! Тысячи, миллионы! — воскликнул Керабан. — Да! Миллионы, если нужно! Ваши возражения исчерпаны?
— Да! — ответил голландец.
— Давно бы так!
Эти последние слова были произнесены таким тоном, что ван Миттен промолчал.
Тем не менее он все же заметил своему властному хозяину, что для подобного путешествия потребуются большие затраты; что он ждет из Роттердама значительную сумму, которую рассчитывает вложить в Константинопольский банк; что на данный момент у него нет больше денег и что… В ответ на это господин Керабан заставил его умолкнуть, говоря, что все расходы на поездку касаются лишь его одного; что ван Миттен — его гость; что богатый негоциант квартала Галата не привык заставлять своих гостей платить и что… и так далее.
Услышав это «и так далее», голландец счел за благо замолчать окончательно.
Если бы господин Керабан не обладал старинным экипажем английского производства, испытанным в деле, то для этой долгой и трудной поездки он ограничился бы и турецкой арбой, в которую чаще всего впрягают быков. Но старая почтовая карета, в которой он ездил в Роттердам, находилась по-прежнему в отличном состоянии. Она была комфортабельно оборудована для трех путешественников. Спереди, между S-образно изогнутыми рессорами, передок поддерживал огромный кофр для провизии и багажа; позади основного кузова был установлен второй кофр, более высокий, чем кабриолет. В нем могли очень уютно расположиться двое слуг. Места для кучера, однако, не было, так как карета предназначалась для почты[80].
Все это могло показаться безнадежно устаревшим и наверняка вызвало бы смех у знатоков каретного дела. Тем не менее экипаж был солидным, на хороших осях и колесах с широкими ободьями и густыми спицами. Рессоры из первоклассной стали делали его совершенно неуязвимым, так что тряски даже на самых ужасных сельских дорогах бояться не приходилось.
Таким образом, ван Миттен и его друг Керабан в комфортабельном кузове с застекленными окнами и ставнями, а Бруно с Низибом, забравшиеся в кабриолет с подъемной рамой, — все четверо в этом средстве передвижения вполне могли бы добраться и до Китая. К счастью, Черное море не простирается до тихоокеанского побережья, иначе ван Миттен вполне мог бы познакомиться и с Небесной империей[81].
Приготовления начались немедленно. Не имея возможности поехать в тот же вечер, как он обещал в пылу спора, господин Керабан хотел отправиться в путь, по крайней мере, с наступлением утренней зари. Но одна ночь — это не слишком много времени, чтобы принять должные меры и уладить дела. Поэтому все служащие конторы были созваны как раз в тот момент, когда они собрались отправиться в какой-нибудь кабачок, чтобы прийти в себя после долгого дневного поста. Кроме того, на месте находился и Низиб, очень проворный в подобных случаях.
А Бруно должен был вернуться в гостиницу «Пест» на проспекте Пера, где его хозяин и он остановились утром, чтобы немедленно перенести в контору весь багаж ван Миттена и собственный. Сам же податливый голландец, которого Керабан не терял из виду, не осмеливался покинуть строптивого набоба ни на минуту.
— Итак, мой хозяин, это решено? — спросил Бруно перед уходом из конторы.
— А как же иначе может быть с таким чертом! — ответил ван Миттен.
— Мы отправимся в путешествие к Черному морю?
— По крайней мере, если мой друг Керабан по пути не изменит планов, а это маловероятно.
— Из всех турецких голов, изготовленных для того, чтобы их колотили на ярмарках, — съязвил Бруно, — едва ли найдется такая же жесткая, как эта.
— Твое сравнение, Бруно, хоть и неуважительно, но верно. И поскольку я разбил бы себе кулак об эту голову, то на будущее воздержусь от того, чтобы колотить по ней.
— Между тем, хозяин, я надеялся отдохнуть в Константинополе, — продолжал Бруно. — Но путешествие…
— Это не путешествие, Бруно, — возразил ван Миттен. — просто другая дорога, по которой мой друг Керабан предпочитает вернуться обедать к себе.
Такой способ видеть вещи не вернул Бруно спокойствия. Он не любил перемещений, а теперь нужно будет передвигаться в течение недель, возможно, месяцев по разным землям, что мало интересовало его. Кроме того, из-за присущей таким долгим поездкам утомительности слуге придется похудеть и, следовательно, потерять те благоприобретенные шестьдесят семь фунтов, которыми он так дорожил.
И тогда хозяин услышал вечный жалобный рефрен[82] Бруно:
— С вами случится несчастье, сударь, повторяю вам, с вами случится несчастье.
— Увидим, — ответил голландец. — Иди же, однако, за багажом, пока я куплю путеводитель, чтобы изучить эти разнообразные земли, и записную книжку для записи впечатлений. Затем ты вернешься сюда, Бруно, и отдохнешь…
— Когда?
— Когда мы закончим черноморское путешествие, коль скоро нам предназначено судьбой совершить его.
В ответ на это фаталистическое[83] рассуждение, которое одобрил бы любой мусульманин, слуга покачал головой, покинул контору и отправился в гостиницу. Воистину это путешествие не сулило ему ничего хорошего.
Через два часа Бруно вернулся с несколькими носильщиками, снабженными крюками, которые удерживались у них на спине при помощи крепких ремней. Они были из тех самых туземцев, одетых в подбитую войлоком материю, покрытых калахами[84], вышитыми разноцветным шелком, и обутых в двойную обувь, одним словом, из тех хаммалей[85], которых Теофиль Готье[86] так верно назвал «двуногими безгорбыми верблюдами». Наши же носильщики были и горбатыми из-за множества тюков, которые они переносили на себе. Весь их груз был сложен во дворе конторы, и сразу же началась загрузка почтовой кареты, предварительно вытащенной из сарая.
А в это время господин Керабан, как и полагается старательному негоцианту, приводил в порядок свои дела. Он проверил состояние кассы и свой дневник, дал инструкции начальнику служащих, написал несколько писем и взял большую сумму в золоте, поскольку бумажные деньги обесценились в 1862 году и больше не котировались. Нуждаясь в российских деньгах для того отрезка пути, который следовал по побережью Московской империи, Керабан намеревался обменять турецкие лиры у своего друга, банкира Селима, коль скоро его маршрут пролегал через Одессу.
Приготовления были быстро закончены. Провизию поместили в кофры кареты. Кое-какое оружие также положили внутрь экипажа, так как никогда не известно, что может произойти, и нужно быть готовыми к любым неожиданностям. Кроме того, не забыли, разумеется, два наргиле: один для ван Миттена, другой для Керабана. Ведь это принадлежности, без которых никак не обойтись турку, особенно если он к тому же — и торговец табаком.
Лошади были заказаны еще вечером и их должны привести на заре. От полуночи до наступления дня оставалось несколько часов, которые сперва были посвящены ужину, а затем — отдыху. На следующий день, когда господин Керабан дал сигнал к пробуждению, все повыскакивали из постелей и оделись по-дорожному.
Почтовая карета была запряжена, загружена, а ямщик, сидя в седле, ожидал путешественников.
Господин Керабан повторил еще раз свои последние распоряжения конторским служащим. Оставалось только отправиться в путь.
Ван Миттен, Бруно и Низиб безмолвно ожидали на просторном дворе конторы.
— Итак, это решено? — спросил в последний раз ван Миттен своего друга Керабана.
Вместо ответа последний показал на экипаж, дверца которого была открыта.
Голландец поднялся по подножке и устроился в глубине кузова слева. Господин Керабан сел рядом с ним. Низиб и Бруно забрались в кабриолет.
— А мое письмо! — воскликнул Керабан в момент, когда великолепный экипаж уже был готов покинуть контору.
И, опустив оконное стекло, он вручил одному из служащих письмо, которое приказал отправить по почте этим же утром. Письмо было адресовано повару с виллы в Скутари и содержало лишь следующие несколько слов:
«Обед откладывается до моего возвращения. Измените меню: суп из простокваши, баранья лопатка с пряностями. И не слишком прожаренная».
Затем карета тронулась, спустилась по улицам предместья, пересекла Золотой Рог по мосту Султана Валида и выехала из города через Ени-Капы — «Новые ворота».
Господин Керабан уехал! Да хранит его Аллах!
Глава шестая,
в которой путешественники начинают испытывать некоторые трудности, особенно в дельте Дуная.
С административной точки зрения, европейская Турция делится на вилайеты — губернаторства, или департаменты, управляемые вали — генерал-губернатором (нечто вроде префекта[87]) назначаемым султаном. Вилайеты подразделяются на санджаки, или округа, под началом мутешшарифа[88]; а также казы, или районы, с каймаканом[89] во главе; на наие, или общины, с мудиром, или избираемым мэром[90]. Это почти та же самая административная система, которая установлена во Франции.
В общем, господину Керабану не нужно или почти не нужно было иметь каких-либо дел с властями вилайетов Румелии, которые пересекает дорога из Константинополя к границе. Этот путь менее всего отклонялся от побережья Черного моря и сокращал поездку наилучшим образом.
Стояла прекрасная для путешествия погода, воздух освежался морским бризом, беспрепятственно проносившимся по этой достаточно равнинной территории. Там были поля кукурузы, ячменя, ржи, а также процветающие во многих областях Оттоманской империи виноградники. Затем показались рощи из дуба, сосны, бука, березы, растущие там и сям группами платаны, лавры, смоковницы, цератонии и, совсем недалеко от моря, гранаты и оливы, подобные тем, что можно увидеть на той же широте в Южной Европе.
Выехав из ворот Ени-Капы, карета направилась по дороге из Константинополя в Шумлу, от которой идет ответвление на Адрианополь через Кырккилиссе. Этот боковой путь пересекает в нескольких местах железную дорогу — она соединяет Адрианополь, главный город европейской Турции, со столицей Османской империи.
Когда почтовая карета ехала вдоль железной дороги, по ней как раз проходил поезд. Один из пассажиров неожиданно высунул голову из окна своего вагона и мог заметить экипаж господина Керабана, быстро уносимый мощной упряжкой. Этим пассажиром был не кто иной, как мальтийский капитан Ярхуд, направлявшийся в Одессу, куда благодаря быстроте поездов он должен был прибыть гораздо раньше, чем дядя молодого Ахмета.
Ван Миттен не смог удержаться, чтобы не указать своему другу на мчащийся на всех парах состав. Но тот по своей привычке лишь пожал плечами.
— Э, друг Керабан, можно быстро доехать, — сказал ван Миттен.
— Да, если доедешь! — ответил господин Керабан.
Нужно отметить, что в течение первого дня путешествия не было потеряно ни одного часа. Благодаря деньгам на почтовых станциях не возникало никаких трудностей. Лошади не заставляли себя упрашивать, когда их запрягали, а ямщики без задержек везли господина, который платил так щедро.
Путешественники проехали через Чаталджу, через Бююк-Хан на водоразделе рек, впадающих в Мраморное море, через долину Чорлу, деревню Еникёй, долину Галата, в которой, если верить легенде, были пробурены подземные каналы, некогда снабжавшие водой столицу.
С наступлением вечера карета на час остановилась в местечке Серай. Поскольку провизия, погруженная в кофры, предназначалась лишь про запас для мест, где даже посредственную пищу трудно достать, то ее следовало приберечь. Поэтому, пообедав, и даже сносно, в Серае, путешественники снова отправились в дорогу. Возможно, с точки зрения Бруно, проводить ночь в кабриолете было не слишком приятно, однако Низиб смотрел на это как на вполне естественную вещь и спал столь заразительно спокойным сном, что в конце концов ему последовал и напарник.
Ночь прошла без происшествий благодаря длинному извилистому изгибу, который делает дорога на подступах к Визе. Это дает возможность избежать крутых откосов и болотистых мест долины. Так что ехали спокойно. Вот только, к своему великому сожалению, ван Миттен не смог, таким образом, увидеть сам Визе — городок с семью тысячами жителей — почти исключительно греков, — который служит резиденцией[91] для православного епископа[92]. Впрочем, он и приехал сюда не для того, чтобы смотреть на что-то, но чтобы сопровождать властного господина Керабана, мало заботящегося о полноте и разнообразии путевых впечатлений.
К пяти часам вечера, после того как путешественники проехали через деревни Бунар-Хиссан, Ени, Ускюп, они обогнули небольшую рощу, усеянную могилами. В них покоятся останки жертв, убитых бандой разбойников, которая некогда орудовала в этих местах. Затем путники прибыли в Кырккилиссе, достаточно значительный город с шестнадцатью тысячами жителей. Его название «Сорок церквей» говорит само за себя. Строго говоря, это нечто вроде небольшой долины с домами (расположенными в глубине и по краям); ван Миттен в сопровождении верного Бруно исследовал ее за несколько часов. Карета была поставлена во дворе достаточно приличной гостиницы, в которой господин Керабан и его спутники провели ночь. Выехали на рассвете.
Днем 19 августа ямщики миновали деревню Карабунар и очень поздно вечером прибыли в город Бургас, расположенный у залива с тем же названием. Путешественники переночевали в «хане» — очень примитивной разновидности постоялого двора, безусловно не заслуживавшего посещения их почтовой карсты.
Утром следующего дня дорога, отклонившись от побережья, привела их к Айтосу, а вечером — в Паравади[93], одну из станций железной дороги Шумла[94] — Варна. Теперь они пересекали провинцию Болгария по югу Добруджи, у подножия последнего отрога Балканского хребта[95]. Здесь им пришлось с большими трудностями передвигаться то посреди болотистых долин, то сквозь заросли буйно разросшихся водных растений. Продирались с величайшим трудом, вспугивая при этом тысячи уток, бекасов, куликов, укрывавшихся на этой пересеченной местности.
Известно, что Балканы образуют важный горный хребет, который проходит между Румелией и Болгарией к Черному морю. Многочисленные отроги тянутся от водораздельного хребта к Дунаю.
Здесь терпение господина Керабана подверглось суровому испытанию. Потребовалось пересечь край хребта, чтобы снова спуститься в Добруджу. Склоны здесь почти неприступной крутизны, повороты столь резкие, что не позволяли упряжке держаться вместе, узкие дороги с пропастями по краям — все это отняло много времени, приводило к дурному настроению и непрерывным препирательствам. Несколько раз приходилось распрягать лошадей и подкладывать клинья под колеса, чтобы выбраться из какого-нибудь трудного прохода. Особенно много «клиньев» нужно было «подкладывать» в виде пиастров, попадавших в карманы ямщиков. А если нет — так не угодно ли вернуться?!
Так что господин Керабан получил прекрасный повод лишний раз обругать нынешнее правительство, которое так плохо присматривало за состоянием дорог и не заботилось об удобствах проезда через провинции. Диван[96], однако, не церемонился, когда речь шла о податях, налогах и всяческих притеснениях, и кто-кто, а господин Керабан отлично это знал! Десять пара, чтобы переправиться через Босфор! Он все время возвращался к этому, как одержимый навязчивой идеей. Десять пара! Десять пара!
Ван Миттен воздерживался от того, чтобы отвечать своему спутнику. Даже видимость противоречия могла бы привести к какой-нибудь сцене. Поэтому, чтобы утихомирить торговца, он, в свою очередь, начинал ругать все правительства вообще и турецкое — в частности.
— Невозможно, — говорил Керабан, — чтобы в Голландии имели место такие злоупотребления!
— Напротив, они есть, друг Керабан, — отвечал ван Миттен, который прежде всего хотел успокоить своего сотоварища.
— А я вам говорю, что нет! — возражал последний. — Утверждаю: только в Константинополе возможны подобные несправедливости! Могли ли когда-либо в Роттердаме даже помыслить о том, чтобы обложить налогом каики?
— У нас нет каиков.
— Не важно!
— Как не важно?
— Да! Если бы они у вас были, то ваш король никогда не решился бы наложить на них налог. Будете уверять меня теперь, что правительство этих новых гурок — не самое плохое правительство в мире?
— Несомненно, самое плохое! — согласился ван Миттен, желая прервать начинающий разгораться спор. И, чтобы удобнее закончить то, что пока еще не перешло рамки простого разговора, он достал свою длинную голландскую трубку. Это вызвало у господина Керабана желание также найти забвение в фимиаме[97] наргиле. Кабина немедленно заполнилась дымом, и пришлось опустить стекла, чтобы дать ему выход. Но в той никотиновой дремоте, которая в конце концов овладевала им, упрямый путешественник оставался безмолвным и спокойным лишь до того момента, пока какое-нибудь происшествие не возвращало его к реальности.
За неимением места для стоянки в этой полудикой стране, ночь с 20 на 21 августа провели в почтовой карете. Только к следующему утру последние отроги Балкан были пройдены и путешественники очутились за румынской границей, на территории с самыми удобными дорогами в Добрудже.
Эта область представляет собой почти остров, образованный широкой петлей Дуная. Повернув сначала на север к Галацу, река поворачивает оттуда опять на восток к Черному морю, в которое впадает через несколько рукавов. Некое подобие перешейка, соединяющего этот «остров» с Балканским полуостровом, ограничивается той частью провинции, расположенной между Чернаводой и Кустендже[98], где проложена небольшая железнодорожная ветка длиной не более 15–16 лье. Но на южном отрезке железнодорожного пути местность, с топографической точки зрения, очень похожа на ту, которую путник видит на севере. И можно сказать, что равнины Добруджи зарождаются у последних отрогов Балкан.
«Добрая земля» — так турки называют этот кусок плодородной почвы, на котором земля принадлежит первому занявшему ее. Если она и не заселена полностью, то по ней кочуют татары-пастухи, а область, прилегающую к реке, обживают валахи. Оттоманская империя владеет там огромной территорией, на которой долины едва углубляются в почти плоскую поверхность земли. Многочисленные холмы простираются до лесов, покрывающих дельту Дуная.
В этом районе дороги без резких подъемов и крутых спусков позволяли карете перемещаться значительно быстрее. Начальники почтовых станций не имели права браниться, видя, как запрягают их лошадей, а если даже они и делали это, то лишь по привычке.
Итак, путешественники ехали быстро и благополучно. 21 августа, в полдень, сменили лошадей в Кослидехе, а в тот же вечер в Базарджике. Там господин Керабан решил провести ночь, чтобы дать отдых всей компании, за что Бруно был ему очень признателен, хотя из осторожности и не говорил этого.
На следующее утро с ранней зарей запряженная свежими лошадьми карета катила по направлению к озеру Карасу. Озеро это — некое подобие обширной воронки, содержимое которой, питаемое глубинными источниками, выплескивается в Дунай в период максимального понижения уровня воды в реке. Почти двадцать четыре лье были преодолены за двенадцать часов, и к восьми часам вечера путешественники остановились перед железнодорожной линией Кустендже — Чернавода, возле станции Меджидия — совершенно нового города, насчитывающего уже двадцать тысяч жителей и обещающего стать еще более значительным.
Там, к своему великому неудовольствию, господин Керабан не смог сразу же перебраться через дорогу, чтобы попасть на постоялый двор, где он собирался провести ночь. Дорога была занята поездом, и нужно было ждать добрую четверть часа, пока не освободился проезд.
Понятно, что последовали новые жалобы и упреки администрации железных дорог, которая считает, что ей все дозволено, и, в частности, не только давить путешественников, имеющих глупость воспользоваться их транспортом, но и заставлять опаздывать тех, кто отказывается это сделать.
— Во всяком случае, — сказал негоциант ван Миттену, — со мной железнодорожная авария никогда не случится.
— Неизвестно, — неосторожно ответил ему достойный голландец.
— Мне известно, мне! — воскликнул господин Керабан тоном, который резко прерывал какую бы то ни было дискуссию.
Наконец поезд покинул станцию Меджидия, шлагбаум открылся, карета проехала, и путешественники расположились отдыхать на достаточно комфортабельном постоялом дворе этого города, чье название было выбрано в честь султана Абдул-Меджида[99].
На следующий день, беспрепятственно проехав по пустынной равнине, путешественники прибыли в Бабадаг, но так поздно, что удобнее было продолжать путь ночью. Вечером, к пяти часам, остановились в Тулче, одном из самых значительных городов Молдовы.
В этом населенном пункте с тридцатью — сорока тысячами жителей, где живут вперемешку черкесы, ногаи, персы, курды, болгары, румыны, греки, армяне, турки и евреи, господин Керабан мог легко найти вполне сносную гостиницу. Он это и сделал. Что до ван Миттена, то, с разрешения своего спутника, он получил возможность посетить Тулчу, очень живописный амфитеатр которого раскрывается на северном склоне небольшой возвышенности, вырастающей над широкой речной заводью почти напротив города Измаила[100].
На следующий день, 24 августа, карета переправилась через Дунай перед Тулчей и отважно продвигалась по речной дельте, образованной двумя крупными рукавами — «гирлами». Первое гирло называется Сулинским, по нему плывут паровые суда; второе, более северное, проходит Измаил, затем Килию и еще ниже достигает Черного моря, разветвляясь по дороге на пять проток. Это то, что именуется дельтой Дуная.
За Килией раскинулась Бессарабия, которая на протяжении пятнадцати лье тянется на северо-восток и проходит по части черноморского побережья.
Само собой разумеется, что происхождение названия Дунай, послужившее причиной многих научных споров, вызвало дискуссию чисто географического характера между господином Керабаном и ван Миттеном. Знали ли его греки времен Гесиода[101] под именем Истрос или Гистрос; было ли название Данувиус принесено римскими армиями и был ли Цезарь[102] первым, кто ввел его в оборот. Правда ли, что в языке фракийцев[103] слово «Дунай» значит «облачный»; происходит ли оно из кельтского[104], санскрита[105], зендского[106] или греческого; был ли прав профессор Бопп и не ошибся ли профессор Виндишманн, когда они спорили о происхождении этого названия.
Наконец господин Керабан вывел название Дунай из зендского слова «асдану», означающего «быструю реку» и, как и всегда, заставил своего оппонента замолчать[107].
Но сколь бы «быстрой» эта река ни была, ее течения недостаточно, чтобы увлечь всю массу воды, задерживаемую в различных руслах. И приходится считаться с крупными наводнениями. Ну а упрямый господин Керабан принять чужие доводы, разумеется, не пожелал и вопреки всем предостережениям направил карету через широкую дельту.
Он не был одиноким в этой глуши: изрядное число уток, диких гусей, ибисов, цапель, лебедей, пеликанов как бы составляло его кортеж[108]. Но негоциант забыл, что если природа создала водоплавающих птиц голенастыми[109] или перепончатокрылыми, то это значит: нужны ходули или перепонки для посещения области, столь часто затопляемой в период больших паводков.
Ну а лошади, всякий с этим согласится, были существами скорее сухопутными, чем водоплавающими, и с трудом передвигались по земле, размокшей из-за последних паводков. За пределами этого гирла Дуная, впадающего в Черное море у Сулины, расстилалось только обширное болото, сквозь которое едва просматривалась почти непроходимая дорога. Вопреки советам ямщиков, к которым присоединился ван Миттен, господин Керабан дал приказ продвигаться вперед. И пришлось ему подчиниться. А привело это к тому, что карета, естественно, увязла в грязи и лошади никак не могли ее оттуда вытащить.
— Дороги недостаточно хорошо содержатся в этой местности, — счел нужным заметить ван Миттен.
— Они такие, какие есть! — не упустил случая Керабан. — Они таковы, какими только и могут быть при подобном правительстве!
— Может быть, нам лучше вернуться и направиться по другому пути?
Напротив, нам лучше продолжать продвигаться и ничего не менять в маршруте!
— Но каким образом?
Нужно послать за вспомогательными лошадьми в ближайшую деревню. — ответил упрямый герой. — А ночь проведем либо в карете, либо на постоялом дворе.
Возражать на это было нечего. Ямщик и Низиб отправились на поиски ближайшей деревни. Вернуться они могли, вероятно, только к восходу солнца. Так что господин Керабан, ван Миттен и Бруно должны были подчиниться необходимости провести ночь посреди этой обширной степи, столь же безлюдной, как если бы они оказались в самой глубине пустынь центральной Австралии. К счастью, карета, погрузившись в тину до втулок колес, как будто не собиралась увязнуть еще глубже.
Между тем ночь была непроглядной. Массивные, очень низкие облака в стадии конденсации[110], пригнанные ветрами с Черного моря, неслись по небу. Хотя дождя не было, сильная влажность исходила от земли, перенасыщенной водой, и подобно полярному туману смачивала все вокруг. Уже в десяти шагах ничего нельзя было разглядеть. Только два фонаря кареты отбрасывали слабенький свет сквозь болотные испарения, и, возможно, лучше было бы их погасить.
В самом деле, этот свет мог привлечь каких-либо нежелательных пришельцев. Но когда ван Миттен высказал свое соображение на этот счет, его несносный спутник счел должным оспорить его, и предложение голландца не имело последствий.
Тем не менее рассудительный ван Миттен был прав, и если бы он оказался похитрее, то предложил бы своему сотоварищу фонарей не гасить: очень вероятно, что в этом случае они как раз были бы погашены.
Глава седьмая,
в которой увязшие почтовые лошадки доказали, что их собственный страх сильнее, чем хлыст ямщика.
Было десять часов вечера. Керабан, ван Миттен и Бруно, поужинав взятой из кофра провизией, курили и около получаса прогуливались по узкой тропинке с твердой почвой.
— Теперь, — сказал ван Миттен, — я думаю, друг Керабан, что вы не имеете ничего против того, чтобы мы пошли спать, пока не прибудут лошади?
— Не имею ничего против, — подтвердил Керабан, чуть поразмыслив, прежде чем дать этот ответ, немного странный со стороны человека, у которого в запасе всегда хватало возражений.
— Мне хотелось бы думать, — добавил голландец, — что мы в безопасности посреди этой абсолютно пустынной равнины?
— Мне тоже хотелось бы.
— Нечего опасаться какого-либо нападения?
— Нечего.
— Если не считать нападения москитов, — заметил Бруно, который только что сильно хлопнул себя по лбу, чтобы раздавить полдюжины этих несносных диптеров[111].
И действительно, тучи прожорливых насекомых, которых, видимо, привлекало мерцание фонарей, начали нахально крутиться вокруг кареты.
— Гм, — заметил ван Миттен, — здесь жуткое количество москитов, и противомоскитная сетка нам не помешала бы.
— Это не москиты, — возразил господин Керабан, почесывая нижнюю часть затылка, — и вовсе не противомоскитной сетки нам не хватает!
— Чего же тогда? — спросил голландец.
— Противокомарной сетки, — ответил Керабан, — потому что эти мнимые москиты — на самом деле комары.
«Черт меня побери, если я нахожу в них различие», — подумал ван Миттен, не считая, правда, уместным начинать дискуссию по этому чисто энтомологическому[112] вопросу.
— Любопытно, — заметил Керабан, — что только самки этих насекомых нападают на человека.
— Узнаю их, этих представительниц прекрасного пола, — сострил Бруно, потирая икры.
— Я думаю, что мы поступим разумно, если вернемся в карету, — сказал ван Миттен, — иначе нас сейчас сожрут.
— Действительно, — ответил Керабан, — равнины нижнего Дуная просто оккупированы комарами, и с ними можно бороться, только посыпая на ночь кровать и рубашку, а днем и носки пиретрумом…
— Которого, к несчастью, у нас нет как нет, — договорил голландец.
— Нет как нет, — ответил Керабан. — Но кто мог предвидеть, что мы окажемся в бедственном положении в болотах Добруджи?
— Никто, друг Керабан.
— Я слышал, друг ван Миттен, о колонии крымских татар, которым турецкое правительство предоставило обширную концессию в дельте этой реки. Так вот, полчища этих комаров вынудили их покинуть ее.
— Судя по тому, что мы видим, друг Керабан, это вполне вероятно!
— Давайте вернемся в карету.
— Мы слишком опоздали, — ответил ван Миттен, мечущийся среди жужжащих крыльев, вибрирующих миллион раз в секунду.
Когда господин Керабан и его товарищ собрались подняться в карету, первый из них остановился.
— Хотя вроде нечего опасаться, — сказал он, — но хорошо было бы, если бы Бруно посторожил, пока не вернется ямщик.
— Он не откажется, — заверил ван Миттен.
— Я не откажусь потому, что мой долг — не отказываться, — сказал Бруно, — но сейчас меня заживо сожрут.
— Нет! — возразил Керабан. — Я слышал, что комары не кусают дважды в одно и то же место, так что скоро Бруно будет избавлен от их нападения.
— Да?.. После того, как буду изрешечен тысячью укусов?
— Именно это я и имел в виду, Бруно.
— Но я могу, по крайней мере, посторожить в кабриолете?
— Безусловно, только чтоб не спать.
— Как можно спать посреди этого ужасного роя москитов?
— Комаров, Бруно, — поправил Керабан. — Простых комаров!
После этого замечания господин Керабан и ван Миттен поднялись в кузов, предоставив Бруно заботу сторожить своего хозяина или, вернее, хозяев, так как со времени встречи негоцианта с голландцем он вполне мог сказать, что теперь у него двое хозяев.
Удостоверившись, что дверцы кареты надежно закрыты, Бруно осмотрел упряжку. Лошади, изнуренные усталостью, лежали на болотной жиже и с шумом дышали.
— Сам дьявол не вытащит их отсюда, — говорил себе слуга. — Блестящая же идея пришла господину Керабану выбрать именно этот путь. В конце концов, его это и забота!
Бруно поднялся в кабриолет и опустил застекленную раму, сквозь которую он мог видеть дорогу сквозь ореол фонарных лучей.
Что оставалось делать слуге ван Миттена, кроме как мечтать с открытыми глазами? Борясь со сном, он размышлял о череде приключений, в которую его вовлек хозяин, последовав за самым упрямым из османов.
Итак, он, дитя древней Батавии[113] любитель шататься по роттердамским улицам, завсегдатай набережной Мааса, искусный рыбак, ротозей с каналов, разрезавших его родной город, оказался на другом краю Европы, сделав гигантский шаг из Голландии в Оттоманскую империю. После высадки в Константинополе судьба забрасывает Бруно в степи нижнего Дуная. И вот он видит себя здесь, взгромоздившимся в кабриолет почтовой кареты посреди болот Добруджи, затерянным в глубокой ночи и, кажется, пустившим корни в эту землю более прочно, чем готическая башня Зёйдекерка! И все это — потому что слуга обязан повиноваться своему хозяину, который точно так же, хотя и по доброй воле, подчиняется господину Керабану.
— О, превратности человеческой жизни! — твердил Бруно. Вот совершаю путешествие вокруг Черного моря, и все ради того, чтобы сэкономить десять пара, которые я охотно заплатил бы из собственного кармана тайком от самого нетерпимого из турок. Но для этого мне следовало быть более предусмотрительным. Ах, упрямец, упрямец! После отъезда я похудел уже на два фунта! За четыре дня! Что же будет через четыре недели? Ну вот, опять эти проклятые насекомые!
Сколь ни плотно Бруно закрыл раму, несколько дюжин комаров все же смогли проникнуть в кабриолет и теперь остервенело набрасывались на беднягу. Сколько шлепков и почесываний это вызвало! Как изощрялся он, обзывая их москитами, раз господин Керабан не мог его слышать.
Таким образом прошел час, затем еще один. Если бы не надоедливые атаки этих насекомых, то, уступая усталости, Бруно, может быть, и заснул бы. Но кто мог бы спать в таких условиях?!
Наверное, было уже за полночь, когда Бруно пришла в голову запоздалая идея. Она должна была бы гораздо раньше прийти к нему, чистокровному голландцу, который, рождаясь, ищет сначала руками курительную трубку, а потом уж губами — грудь кормилицы. Идея заключалась в том, чтобы бороться с вторжением комаров затяжками табачного дыма. Как он не подумал об этом до сих пор! Если эти насекомые сумеют противостоять тому маленькому никотиновому аду, который он сейчас устроит в своем кабриолете, то, значит, их комариная жизнь в болотах нижнего Дуная воистину сурова!
Итак, Бруно достал из кармана свою фарфоровую трубку с эмалевыми цветочками — точную копию той, которую у него так бесстыдно украли в Константинополе. Он набил ее, как если бы это было огнестрельное оружие, которое он собирался разрядить по вражеским войскам. Затем высек огонь огнивом, зажег трубку и стал вдыхать дым превосходного голландского табака и выдыхать его огромными клубами.
Комариный рой сперва усилил жужжание, удваивая взмахи крыльев, а потом постепенно рассеялся в самых темных углах кабриолета. Бруно мог поздравить себя с придуманным маневром. Батарея, только что пущенная им в дело, совершила чудо: нападавшие отступили в беспорядке. Но так как он не стремился брать пленных, то быстро открыл раму, чтобы дать выход находящимся внутри кабриолета насекомым, хорошо понимая, что его дымовые залпы препятствовали проникновению наглых кровососов снаружи.
Теперь, когда Бруно освободился от легиона[114] несносных двукрылых, он мог даже рискнуть как следует осмотреться по сторонам. Кругом было все еще очень темно. Налетали сильные порывы бриза и раскачивали карету, которая, впрочем, была очень устойчивой. Поэтому оснований опасаться, что она перевернется, не было.
Смотря вперед, Бруно старался увидеть, нет ли каких-либо огней на северном горизонте, свидетельствовавших о возвращении ямщика с запасными лошадьми. Полная темнота, мрак, тем более глубокий вдали, что передняя часть почтовой кареты четко вырисовывалась в свете, отбрасываемом фонарями. Затем Бруно оглянулся по сторонам, и ему показалось, что на расстоянии около шестидесяти футов появились какие-то яркие точки, которые быстро и бесшумно перемещались во мраке то на уровне земли, то на два-три фута выше.
Первым делом Бруно спросил себя, не было ли это простой фосфоресценцией[115] блуждающих огоньков на поверхности болота, где всегда хватает сероводорода[116]. Однако, если его рассудочное предположение могло оказаться ошибочным при определении степени опасности непонятного явления, то лошадей-то их инстинкт не мог обмануть! А они начали при виде этого феномена проявлять признаки волнения, принюхиваясь и фыркая необычным образом.
«Что это? — спросил себя Бруно. — Без сомнения, какая-нибудь новая неприятность. Может, волки?»
Не было ничего невероятного в том, что это и впрямь сверкали глазами волки. Еще бы! Они могли учуять лошадей! Стаи всегда голодных серых хищников часто встречаются в дельте Дуная.
— Вот черт! — пробормотал Бруно. — Это было бы похуже, чем москиты или комары нашего упрямца. И табачным дымом здесь ничего не сделаешь.
Тем временем лошади испытывали живейшее беспокойство, и в этом невозможно было ошибиться. Они пытались брыкаться в густой грязи, становились на дыбы и сильно дергали карету. К этому моменту светящиеся точки заметно приблизились и — что за странность? — нечто вроде глухого хрюканья стало примешиваться к свисту ветра.
«Думаю, — сказал себе Бруно, — что самый раз предупредить господина Керабана и хозяина».
И действительно, медлить было опасно. Поэтому Бруно осторожно соскользнул на землю, опустил подножку кареты, открыл дверцу и снова закрыл, очутившись внутри кабины, где двое друзей спокойно спали, лежа рядом друг с другом.
— Хозяин… — позвал Бруно тихим голосом, положив руку на плечо ван Миттена.
— К черту того, кто меня будит, — пробормотал голландец, протирая глаза.
— Сейчас не до того чтобы людей так далеко посылать, особенно если черт, возможно, рядом, — ответил Бруно.
— Это кто со мной разговаривает?
— Я, ваш слуга.
— А! Бруно! Это ты? Впрочем, ты хорошо сделал, что разбудил меня. Понимаешь, приснилось, что госпожа ван Миттен…
— Хочет поругаться с вами, — продолжил Бруно. — Но сейчас не до этого.
— А в чем дело?
— Вы не могли бы разбудить господина Керабана?
— Разбудить?
— Да! Как раз пора.
Не спрашивая ничего больше, голландец, который и сам еще находился в полусне, потряс своего спутника.
Ничто не сравнимо со сном турка, если у него полный желудок и спокойная совесть. А именно таким безмятежным сном спал спутник ван Миттена. Пришлось потрясти его несколько раз. Господин Керабан, не поднимая век, стал ворчать и брюзжать, как человек, который вовсе не собирается кому бы то ни было подчиняться. Упрямец наяву — он и во сне не меньший упрямец, и, видимо, следовало предоставить ему спать дальше. Тем не менее ван Миттен и Бруно проявили такую настойчивость, что господин Керабан все же потянулся, открыл глаза и сказал все еще сонным голосом:
— Что? Вспомогательные лошади с ямщиком и Низибом уже прибыли?
— Нет еще, — ответил ван Миттен.
— Так зачем же меня будили?
— Потому что, если лошади еще и не прибыли, — ответил Бруно, — то другие очень подозрительные животные окружают карету и собираются напасть на нее.
— Что за животные?
— Посмотрите.
Стекло дверцы кареты было опущено, и Керабан высунулся наружу.
— Да поможет нам Аллах! — воскликнул он. — Здесь целое стадо диких кабанов.
Ошибки быть не могло! На карсту надвигались действительно кабаны, — в дунайской дельте их было немало. Нападение кабанов крайне опасно, и они могут быть отнесены к категории хищных зверей.
— Что будем делать? — спросил голландец.
— Сохранять спокойствие, если они не нападут, — ответил Керабан. — Защищаться, если животные бросятся в атаку.
— Зачем кабанам нападать на нас? — удивился ван Миттен. — Насколько мне известно, они не плотоядны.
— Да, конечно, — согласился Керабан. — Но если нам не угрожает опасность быть сожранными, то вспороть животы кабаны вполне могут.
— Одно другого стоит, — философски заметил Бруно.
— Поэтому будем готовы к любому ходу событий.
Сказав это, господин Керабан стал приводить в порядок оружие. У ван Миттена и Бруно было по шестизарядному револьверу и некоторое количество патронов. У него же — старого турка, открытого противника любого современного новшества, — имелось только два пистолета отечественного производства со стволами, украшенными насечкой, с рукоятками, инкрустированными черепашьим панцирем и драгоценными камнями, пригодными больше всего для того, чтобы украшать пояс какого-нибудь аги[117]. Но как прикажете из этого украшения стрелять? Таким образом, ван Миттен, Керабан и Бруно могли воспользоваться только перечисленным выше оружием и должны были действовать им без промаха.
Тем временем кабаны, которых было добрых два десятка, приблизились и окружили карету. В свете фонарей, их несомненно и привлекшего, можно было видеть, как они бешено метались и взрывали землю ударами своих клыков. Это были огромные звери чудовищной силы. Каждый из них был способен повспарывать животы целой своре собак. Так что положение путешественников продолжало оставаться тревожным, и они в любой момент могли подвергнуться нападению со всех сторон еще до наступления дня. Лошади упряжки хорошо это чувствовали. Под хрюканье стада они храпели и кидались в сторону так, что оглобли кареты только чудом не ломались, а постромки — не рвались.
И тут раздался грохот. Это ван Миттен и Бруно выстрелили по два раза из своих револьверов в кабанов, бросившихся в атаку. Раненые животные яростно ревели и катались по земле. Но другие, рассвирепев, бросились к карете и напали на нее, нанося удары клыками. Стенки были пробиты во многих местах, и стало очевидным, что еще немного — и они будут уничтожены.
— Черт! Вот черт! — бормотал Бруно.
— Огонь! Огонь! — повторял господин Керабан, разряжая свои пистолеты, которые обычно давали осечку, хотя он этого упорно не признавал. Револьверы Бруно и ван Миттена ранили еще нескольких ужасных зверей, устремившихся прямо к упряжке. Это еще больше испугало лошадей. Им угрожали клыки кабанов, а они, не имея свободы движения, могли отвечать только брыканием. Если бы лошади были отвязаны, то бросились бы сквозь поле и получили бы возможность соревноваться в скорости с напавшим на них диким стадом. Изо всех сил они старались порвать постромки. Но сбруя, сделанная из крученого шнура, не поддавалась. Это угрожало тем, что передок экипажа разлетится вдребезги или что карета перевернется в грязи.
Господин Керабан, ван Миттен и Бруно хорошо это понимали. Больше всего они опасались, что карета будет опрокинута. Тогда кабаны, которых выстрелы уже не сдерживали, набросились бы сверху и с пассажирами было бы покончено. Но что сделать, чтобы предотвратить такую возможность? Разве не были они во власти яростного стада? Однако хладнокровие не покинуло путешественников, и они не жалели патронов.
Вдруг еще более сильный удар потряс карету, как если бы оторвался передок.
— А, тем лучше, — воскликнул Керабан. — Пусть наши лошади ускачут в степь! Кабаны погонятся за ними и оставят нас в покое.
Но передок прочно держался с надежностью, делавшей честь этому древнему произведению английского каретного дела. Итак, он не уступал. А вот карета уступила. Сотрясения стали столь сильными, что вырвали ее из глубокой колеи, в которую она была погружена до осей. Последний рывок ошалевших от ужаса лошадей вытащил карету на более твердую почву, и вот она уже быстро увлекается прочь упряжкой, ничем не направляемой посреди глубокой ночи.
Кабаны, однако, не отступили. Они мчались, нападая сбоку, одни — на лошадей, другие — на карету, которая никак не могла обогнать их.
Господин Керабан, ван Миттен и Бруно были отброшены в глубь кабины.
— Или мы перевернемся… — тревожился ван Миттен.
— Или мы не перевернемся, — острил Керабан.
— Нужно постараться поймать вожжи, — рассудительно заметил Бруно. И, опустив передние стекла, он поискал вожжи рукой, но, видимо, барахтаясь, лошади порвали их, и теперь не оставалось ничего другого, как положиться на волю случая в этой бешеной скачке по болотистой местности. Чтобы прекратить бег упряжки, было лишь одно средство: остановить разъяренное стадо, которое ее преследовало. Ну, а огнестрельное оружие помочь здесь не могло, так как пули просто терялись в движущейся массе. Путешественники, которых бросало друг на друга или в разные углы кабины при каждом толчке, не тратили больше слов. Один покорился судьбе как истинный мусульманин, другой остался верен себе как всякий флегматичный голландец.
Добрый час прошел таким образом. Карета продолжала нестись, а кабаны не отставали.
— Друг ван Миттен, — сказал наконец Керабан, — мне рассказывали, что в подобных обстоятельствах один путешественник, за которым гналась стая волков в российских степях, спасся благодаря возвышенной преданности своего лакея.
— Каким образом? — спросил ван Миттен.
— О, ничего проще, — ответил Керабан. — Лакей обнял своего хозяина, поручил душу Богу, выскочил из кареты, и, пока волки задержались, чтобы сожрать его, хозяин сумел умчаться и был спасен.
— Очень жаль, что здесь нет Низиба! — спокойно заметил Бруно.
После этого все трое снова впали в глубокое безмолвие.
Упряжка продолжала мчаться среди ночи со страшной скоростью, а кабаны никак не могли настичь ее. Если не случится ничего особенного, не сломается колесо, слишком сильный толчок не перевернет карету, то господин Керабан и ван Миттен сохранят некоторый шанс на спасение даже без того варианта преданности, на который Бруно чувствовал себя неспособным.
Кроме того, нужно сказать, что, направляемые инстинктом, лошади чувствовали себя гораздо увереннее в этой части степи, с которой были уже знакомы. Поэтому они неуклонно направлялись по прямой линии к ближайшей почтовой станции. И когда первые проблески дня стали вырисовывать линию горизонта на востоке, карета находилась не далее, чем в нескольких верстах от нее.
Стадо кабанов продолжало преследование еще в течение получаса, затем постепенно отстало. Однако упряжка ни на миг не замедляла своего движения и остановилась, только будучи совершенно разбитой. Лошади тут же свалились в нескольких сотнях шагов от почтовой станции.
Господин Керабан и оба его спутника были спасены. Бог христиан и бог неверных[118] были одинаковым образом возблагодарены за то покровительство, которое они оказали голландским и турецкому путешественникам в течение этой опасной ночи.
В то время, когда карета прибыла на станцию, Низиб и ямщик, не отважившись выехать в темноте, находились все еще там и как раз собирались отправляться, взяв с собой вспомогательных лошадей.
Заменили упряжку, за что господину Керабану пришлось заплатить хорошую цену. Затем, не получив даже часового отдыха, путники после починки постромок снова отправились в путь и устремились по дороге на Килию.
Что сказать об этом маленьком городе, укрепления которого русские разрушили, прежде чем отдать его Румынии? Он является также и дунайским портом, расположенным на рукаве реки, носящем то же название. Вот, пожалуй, и все.
Карета без новых приключений добралась до него вечером 25 августа. Изнуренные путешественники остановились в одной из лучших гостиниц города и хорошим двенадцатичасовым сном вознаградили себя за утомление от предшествовавшей ночи.
На следующий день они выехали с зарей и быстро прибыли на русскую границу.
Здесь, однако, снова возникли трудности. Оскорбительные формальности таможни московитов[119] подвергли суровому испытанию терпение господина Керабана, который благодаря своим деловым связям, к несчастью или счастью — как хотите, — довольно хорошо владел местным языком, чтобы быть понятым. В один из моментов можно было даже предположить, что его упрямство при оспаривании не совсем приличного поведения таможенников помешает ему перейти через границу.
Однако ван Миттен с трудом, но сумел его успокоить. Керабан согласился подвергнуться досмотру и позволить перерыть все свои чемоданы. Он заплатил и таможенную пошлину, правда высказав при этом не единожды следующее совершенно справедливое рассуждение:
— Решительно, все правительства одинаковы и не стоят арбузной корки!
Наконец румынская граница была перейдена, и карета устремилась через ту часть Бессарабии, которая составляет северо-восточное побережье Черного моря.
Теперь господин Керабан и ван Миттен находились не более чем в двадцати лье от Одессы.
Глава восьмая,
в которой читатель охотно познакомится с молодой Амазией и ее женихом Ахметом.
Молодая Амазия, единственная дочь банкира Селима, турчанка по происхождению, прогуливалась и разговаривала со своей камеристкой Неджеб в галерее очаровательного обиталища, простиравшегося террасами до берега Черного моря.
С последней террасы, ступени которой омывались водами, спокойными в этот день, но часто волнуемыми ветрами древнего Понта Эвксинского, в полулье на юг можно было видеть Одессу во всем ее блеске.
Этот город — оазис посреди окружающей его обширной степи — являет собой великолепную панораму дворцов, церквей, гостиниц, домов, построенных на крутом прибрежном утесе, основанием вертикально уходящим в море. Из жилища банкира Селима можно было даже разглядеть большую площадь, обсаженную деревьями, и монументальную лестницу, над которой возвышается памятник герцогу де Ришелье[120]. Этот крупный государственный деятель был основателем города и оставался его управителем вплоть до того времени, когда ему пришлось вернуться на родину и посвятить себя делу освобождения французской территории, захваченной европейской коалицией.
Климат города под влиянием северных и восточных ветров крайне сух, и богатые жители этой столицы Новороссии[121] вынуждены в период знойного сезона искать свежесть в тени хуторов. Это объясняет, почему на берегу так много вилл, предназначенных для удовольствия тех, кому дела не позволяют провести несколько месяцев курортной жизни под небом Южного Крыма. Здесь же можно было увидеть и виллу банкира Селима, которую ее расположение избавляло от неудобств чрезмерной сухости.
Если зададут вопрос, почему название «Одесса» (то есть «город Одиссея»[122]) дали небольшому местечку, которое вместе со своими укреплениями во времена Потемкина[123] было известно как Хаджи-Бей, то ответ на него есть, и весьма занятный. Поселенцы, привлеченные сюда привилегиями, пожалованными новому городу, попросили императрицу Екатерину II[124] дать ему название. Императрица обратилась за советом в Санкт-Петербургскую академию. Академики порылись в истории Троянской войны[125]. Их «раскопки» выявили более или менее проблематичное существование города Одессоса, некогда находившегося в этой части побережья. Отсюда и название Одесса, возникшее во второй трети восемнадцатого века[126].
Одесса была торговым городом, остается им и можно думать, что всегда будет. Ее сто пятьдесят тысяч жителей — это не только русские, но и турки, греки, армяне, — в общем, космополитический[127] набор весьма деловых людей. Ну а поскольку коммерция, особенно связанная с экспортом, не делается без коммерсантов, то она также не обходится и без банкиров. Отсюда и возникновение банковских домов с самого начала становления нового города. А среди них — сперва скромный, но теперь в ряду наиболее уважаемых — банк Селима.
Чтобы лучше представить себе его хозяина, следует знать, что Селим принадлежал к более многочисленной, чем обычно думают, категории моногамных[128] турок. Став вдовцом, он посвятил себя воспитанию единственной дочери, Амазии. Она-то и стала невестой молодого Ахмета, племянника господина Керабана. Наконец, Селим был корреспондентом и другом самого упрямого османа.
Свадьба Ахмета и Амазии, как известно, должна была праздноваться в Одессе. Дочь банкира Селима не предназначалась на роль первой жены в гареме, разделяющей с большим или меньшим числом соперниц-гинекей[129] эгоистичного и капризного турка. Нет! Она должна была вместе с Ахметом вернуться в Константинополь, в дом его дяди, и одна, без соперниц, жить там вместе с любимым мужем, который с детства боготворил ее. Каким бы странным ни казалось такое будущее молодой турецкой женщины в стране ислама, тем не менее это было так, и Ахмет был не тем человеком, который стал бы отступать от обычаев своей семьи.
Мы уже упоминали, что тетя Амазии, сестра ее отца, умирая, завещала ей огромную сумму в сто тысяч турецких лир при условии, что она выйдет замуж прежде, чем ей исполнится семнадцать лет. Это был каприз старой девы, решившей, что замужество никогда не будет слишком ранним для ее племянницы. Срок истекал через шесть недель. В противном случае наследство, составлявшее большую часть состояния девушки, отошло бы к дальним родственникам.
Амазия была очаровательной даже в глазах европейца. Если бы soniadomac, или вуаль из белого муслина[130], а также покрывавший ее голову убор из затканной золотом материи и тройной ряд цехинов[131] на ее лбу были сдвинуты, то можно было бы увидеть, как развеваются локоны чудесных черных волос. Амазия не применяла для подчеркивания своей красоты ни одного из известных в Турции способов: ханум[132] не подрисовывал ей брови, хол[133] не окрашивал ресницы, хна[134] не оттеняла веки, лицо не подрисовывалось висмутовыми белилами и кармином, жидкий кермес[135] не румянил губ. Западная женщина, подчиняясь жалкой современной моде, была бы накрашена гораздо больше. Но природная элегантность дочери Селима, гибкость талии, грация походки угадывались под фередже[136], широким плащом из Кашмира, который подобно далматике[137] драпировал ее от шеи до ног.
В тот день Амазия находилась в галерее, примыкавшей к садам, и была одета в длинную шелковую рубашку, спадавшую поверх широких шальвар[138] с пристегнутой к ним вышитой курточкой и энтари[139] с шелковым шлейфом, разрезанную в рукавах и украшенную позументом из ойа — разновидности кружева, производимого только в Турции. Пояс из Кашмира удерживал шлейф, облегчая ходьбу. Сережки и кольцо были единственными украшавшими ее драгоценностями. Элегантные паджубы прикрывали нижнюю часть ног, а ступни исчезали в обуви, сутажированной[140] золотом. Ее камеристка Неджеб, преданная спутница, можно даже сказать, почти подруга, была в тот момент рядом. Она расхаживала туда-сюда, разговаривала, смеясь, и Амазия получила искреннее удовольствие от общения с жизнерадостной девушкой.
Неджеб происходила из цыган и вовсе не была рабыней. Хотя на некоторых рынках империи и можно еще увидеть выставленными на продажу эфиопов или чернокожих суданцев, в принципе рабство здесь все же отменено. В домах важных турок количество слуг может быть значительным, а в Константинополе, например, оно составляет треть всего мусульманского населения, но эти люди не низведены до рабского положения; обычно они заняты в какой-то конкретной сфере и им не приходится много работать. Так же приблизительно обстояло дело и в доме банкира Селима. Что же до Неджеб, то после того, как еще ребенком ее приютили в этой семье, она занимала особое положение, состояла исключительно при Амазии и не имела ничего общего с обычной прислугой.
Слушая свою наперсницу, Амазия полулежала на диване, покрытом богатой персидской материей. Она улыбалась, но при этом рассеянно смотрела вдоль бухты в сторону Одессы. И ее собеседнице было понятно, почему…
— Дорогая хозяйка, — Неджеб села на подушку у ног молодой девушки, — господин Ахмет еще не пришел? Чем же он занят?
— Он отправился в город, — отозвалась Амазия, — и, может быть, принесет нам письмо от своего дяди Керабана.
— Письмо! Письмо! — с разочарованием воскликнула молодая камеристка. — Сейчас нам не письмо, а сам дядя нужен. А он заставляет себя ждать.
— Немного терпения, Неджеб!
— Вам легко говорить, моя дорогая хозяйка. На моем месте вы не были бы такой терпеливой!
— Сумасшедшая! — улыбнулась Амазия. — Можно подумать, что речь идет не о моем, а о твоем замужестве.
— А вы считаете, что это недостаточно серьезная вещь — перейти на службу к даме после работы у молодой девушки?
— Из-за этого я не буду любить тебя больше, чем сейчас, Неджеб!
— И я тоже, моя милая хозяйка! Но я буду видеть вас такой счастливой, такой счастливой, когда вы станете женой господина Ахмета, что и мне перепадет частичка вашего счастья!
— Милый Ахмет, — прошептала девушка, на какой-то момент закрывшая глаза при воспоминании о женихе.
— Ну вот! Вам приходится закрывать глаза, чтобы увидеть его, моя возлюбленная хозяйка! — язвительно воскликнула Неджеб. — А если бы он был здесь, то вам достаточно было бы открыть их.
— Я повторяю тебе, Неджеб, что он пошел познакомиться с корреспонденцией в банке и безусловно принесет нам письмо от своего дяди.
— Да! Письмо от господина Керабана, в котором тот, по своему обыкновению, повторит, что дела удерживают его в Константинополе, что он еще не может покинуть свою контору, что цены на табак поднимаются или падают, что он непременно приедет через неделю, если не через две… А время не терпит! У нас не более шести недель, чтобы вы вышли замуж, иначе все ваше состояние…
— Ахмет любит меня не из-за состояния.
— Да, конечно… Но все же это промедление ему во вред. О, этот господин Керабан! Если бы он был моим дядей…
— И что бы ты с ним сделала?
— Ровно ничего, дорогая хозяйка, потому что, кажется, с ним — или из него — ничего нельзя сделать! И все же если бы он был здесь, то уже сегодня или самое позднее завтра мы пошли бы регистрировать свадебный контракт у судьи. А послезавтра, после молитвы имама, продолжали бы празднества на вилле. И так в течение пятнадцати дней, а господин Керабан уехал бы еще до их окончания, если бы ему это потребовалось.
Несомненно, что все и могло бы так произойти, при условии, что дядя Керабан без дальнейшего промедления покинул бы Константинополь. Регистрация контракта, по которому будущий муж обязуется предоставить жене мебель, одежду и кухонные принадлежности, — дело недолгое. Да и религиозная церемония — тоже. Все эти формальности ничто не помешало бы выполнить за день-другой, о чем и говорила Неджеб. Но для этого нужно было, чтобы господин Керабан урвал из своих дел толику времени, которую во имя своей прекрасной хозяйки требовала от него нетерпеливая цыганка. Ведь он — опекун жениха, его присутствие необходимо для узаконения брака.
Вдруг молодая камеристка воскликнула:
— Посмотрите! Посмотрите-ка на это небольшое судно, которое только что бросило якорь прямо перед садами.
— Любопытно! — откликнулась Амазия.
И обе девушки направились к лестнице, спускавшейся в море, чтобы лучше разглядеть небольшое, грациозное судно, бросившее якорь поблизости. Это была тартана, парус которой висел теперь на гитове[141]. Легкий бриз позволил ей пересечь Одесский залив. Якорная цепь удерживала ее менее чем в кабельтове[142] от побережья, и тартана слабо покачивалась на докатывавшихся до лестницы и угасавших здесь волнах. Красный турецкий флаг с серебряным полумесяцем развевался на ее мачте.
— Ты можешь прочитать ее название? — спросила Амазия у Неджеб.
— Да, — ответила девушка. — Смотрите, оно написано на корме: «Гидара».
Действительно, «Гидара» капитана Ярхуда только что стала на якорь в этой части бухты. Но экипаж, кажется, не собирался находиться здесь долго, так как паруса не были убраны и любой моряк предположил бы, что судно вот-вот отплывет.
— Было бы восхитительно, — сказала Неджеб, — прогуляться на этой симпатичной тартане по голубому морю при легком ветерке, который заставляет ее наклоняться иод белым крылом паруса.
Вскоре девушки вернулись в дом. Заметив шкатулку на маленьком столике из китайского лака, стоявшем рядом с диваном, молодая цыганка подошла, открыла ее и достала несколько драгоценностей.
— А! Это прекрасные вещи, которые господин Ахмет прислал для вас! — воскликнула она. — Мне кажется, что мы уже очень много времени не рассматривали их.
— Ты думаешь? — прошептала Амазия, беря ожерелье и браслеты, засверкавшие в ее пальцах.
— Этими драгоценностями господин Ахмет надеется сделать вас еще более красивой, но ему это не удается.
— Что ты говоришь, Неджеб! — удивилась Амазия. — Какая женщина не похорошеет, надев такие великолепные украшения? Посмотри на алмазы из Висапура. Это огненные драгоценности, и кажется, что они смотрят на меня как прекрасные глаза жениха.
— Э, дорогая хозяйка, когда на него смотрят ваши глаза, разве тогда вы не делаете ему подарка, еще более драгоценного?
— Сумасшедшая! — засмеялась Амазия. — А этот сапфир из Ормуза, жемчужины из Офира, бирюза из Македонии…[143]
— Бирюза за бирюзу! — ответила Неджеб с веселым смехом. — Господин Ахмет на этом не потеряет!
— К счастью, Неджеб, его нет здесь, и он тебя не слышит.
— А что такого? Если бы он был здесь, милая хозяйка, то сам сказал бы вам все это, и его слова были бы иначе оценены вами.
Затем, взяв в руки пару домашних туфель, находившихся возле шкатулки, Неджеб снова заговорила:
— А эти красивые тапочки, покрытые блестками и позументом, сделаны для двух маленьких ножек, которые я знаю. Разрешите мне примерить их на вас.
— Примерь на себя, Неджеб.
— На меня?
— Разве иногда ты уже не делала это, чтобы доставить мне удовольствие…
— Безусловно, безусловно, — согласилась Неджеб. — Да! Я уже примеряла ваши прекрасные туалеты и даже собиралась показаться на террасе виллы… Но в таком виде меня могли бы принять за вас, дорогая хозяйка. А этого не должно быть, и сегодня — тем более. Ну, наденьте же эти красивые туфли.
— Ты так хочешь?
И Амазия любезно подчинилась капризу Неджеб, которая надела на нее сверкающие туфли, достойные оказаться на ювелирной витрине.
— Ах, как только решаются ходить в такой обуви! — воскликнула молодая цыганка. — И кто теперь будет испытывать ревность?
— Ваша голова, дорогая хозяйка! Ей поневоле придется ревновать к вашим ножкам всякого, у кого есть глаза!
— Ты смешишь меня, Неджеб, — заулыбалась Амазия. — И однако…
— А руки! Эти прекрасные руки, которые вы оставляете совсем обнаженными! Чем они досадили вам? Господин Ахмет их не забыл. Я вижу здесь браслеты, которые к ним великолепно подойдут. Бедные ручки, как с вами обращаются! Но, по счастью, я здесь…
И, продолжая смеяться, Неджеб надела на кисти девушки два великолепных браслета, еще более ослепительных на белой и теплой коже, чем в футляре.
Амазия ей не мешала. Все эти драгоценности напоминали ей об Ахмете и как бы разговаривали с ней под непрерывную болтовню Неджеб.
— Милая Амазия!
Услышав эти слова, девушка стремительно поднялась. Молодой человек, чьи двадцать два года хорошо гармонировали с семнадцатью годами невесты, стоял рядом с ней. Темноволосый, рост — чуть выше среднего, осанка — одновременно изящная и гордая. Блестящие черные глаза красноречиво говорили о нежности и страсти. Тонкие усики, очерченные по албанской моде, контрастно подчеркивали, при улыбке, белизну зубов. В общем, — вид очень аристократический, если этот эпитет можно применить в стране, в которой он не употребляется, поскольку наследственной аристократии здесь не существует.
Ахмет был одет истинно по-турецки. Да и могло ли быть иначе с племянником человека, который считал бесчестием европеизацию одежды на манер государственных чиновников? Куртка, вышитая золотом, шаровары[144] безупречного покроя, не отягощенные позументом дурного вкуса, пояс, грациозно обвивавший стан, феска, отделанная сарыком[145] из хлопка, сапоги из сафьяна — в таком облачении юноша выглядел чрезвычайно выигрышно.
Ахмет подошел к девушке, взял ее за руки и ласково усадил в кресло.
— Господин Ахмет, нет ли вестей из Константинополя? — спросила Неджеб.
— Никаких, — ответил Ахмет. — От дяди Керабана нет даже деловых распоряжений.
— Что за человек! — воскликнула молодая цыганка.
— Я нахожу необъяснимым, — продолжал Ахмет, — что курьер не привез корреспонденции даже из его конторы. Сегодня как раз тот день, когда дядя регулярно улаживает дела со своим одесским банкиром. И что же? Ваш отец, милая Амазия, не получил никакого письма по этому поводу!
— В самом деле, дорогой Ахмет. Со стороны негоцианта, столь аккуратного в делах, как ваш дядя Керабан, это удивительно! Может быть, телеграмма?..
— Ему! Посылать телеграмму! Но, милая Амазия, вы хорошо знаете, что дядя не посылает сообщений по телеграфу, как и не ездит по железной дороге! Никакая коммерческая выгода не заставит его использовать эти современные изобретения… Я думаю, что он предпочел бы получить плохую новость в письме, чем хорошую в виде телеграммы! О, дядя Керабан!
— Однако вы ему писали, дорогой Ахмет? — спросила девушка, нежно глядя на своего жениха.
— Я десять раз писал, чтобы ускорить его прибытие в Одессу, и просил установить более близкую дату для празднования нашей свадьбы. Я повторял ему, что он варвар, а не дядя…
— Хорошо! — воскликнула Неджеб.
— Бессердечный дядя, хоть и хороший.
— Ну. — Неджеб скептически усмехнулась, покачав головой.
— Черствый человек, а ведь он мне — как родной отец… На все это дядя мне ответил, что, кроме прибытия до истечения шести недель, ничего другого от него требовать нельзя.
— Так что нам придется ждать проявления его доброй воли, Ахмет.
— Ждать, Амазия, ждать!.. — развел руками бедный жених. — Он крадет у нас столько счастливых дней!
— И при этом безнаказанно! В то время, как арестовывают воров, да, воров, которые причиняют гораздо меньше вреда! — воскликнула Неджеб, топнув ногой.
— Что вы хотите! — сказал Ахмет, — Я все-таки еще раз попробую смягчить дядю Керабана. Если завтра он не ответит на мое письмо, то я поеду в Константинополь и…
— Нет, милый Ахмет, — ответила Амазия, схватив молодого человека за руку и как бы желая удержать его. — Я буду больше страдать от вашего отсутствия, чем получу удовольствия от нескольких выигранных дней для нашей свадьбы. Нет! Останьтесь! Кто знает, не изменят ли какие-либо обстоятельства решение вашего дяди.
— Изменить решение дяди Керабана! — ответил Ахмет. — С таким же успехом можно пытаться нарушить ход светил, поместить луну на место солнца, изменить законы неба.
— Ах, если бы я была его племянницей! — воскликнула Неджеб.
— И что бы ты сделала? — спросил Ахмет.
— Я… Я так ухватила бы его за кафтан, что…
— Что порвала бы ему кафтан, Неджеб, и ничего больше.
— Ну, так сильно дернула бы его за бороду…
— Что его борода осталась бы у тебя в руке.
— И все же, — сказала Амазия, — господин Керабан — лучший из людей.
— Конечно, конечно, — ответил Ахмет. — Но до того упрямый! Если бы он стал тягаться в упрямстве с мулом, то я не поставил бы в этом споре на мула[146].
Глава девятая,
в которой немногого недостает для того, чтобы план капитана Ярхуда исполнился.
В одной из боковых дверей галереи появился слуга.
— Господин Ахмет, — обратился он к молодому человеку, — там иностранец, который хочет с вами поговорить.
— Кто такой? — спросил жених.
— Некий мальтийский капитан. Он очень настаивает, чтобы вы его приняли.
— Хорошо! Я иду…
— Мой дорогой Ахмет, — сказала Амазия, — примите его здесь, если, конечно, он не прибыл с секретной миссией.
Это, наверное, капитан вон той очаровательной тартаны? — заметила Неджеб, указывая на маленькое судно, бросившее якорь прямо перед домом.
— Возможно! — ответил Ахмет. — Пусть войдет.
Слуга удалился, и через мгновение иностранец появился в дверях галереи.
Это действительно был капитан Ярхуд, командир тартаны «Гидара» — быстроходного корабля грузоподъемностью в сотню тонн, столь же приспособленного для каботажного плавания по Черному морю, как и для навигации в масштабе всего Леванта[147].
К крайнему огорчению Ярхуда, ему пришлось немного задержаться. После своего разговора со Скарпантом, интендантом господина Саффара, он, не теряя ни часа, перебрался из Константинополя в Одессу по железным дорогам Болгарии и Румынии. Таким образом, капитан на несколько дней опережал господина Керабана, который при своей старотурецкой медлительности одолевал от силы пятнадцать — шестнадцать лье в сутки. Но погода в Одессе была такой плохой, что мальтиец не рискнул вывести «Гидару» из порта, и ему пришлось ждать, пока ветер с северо-востока не опалит немного землю Европы. И лишь только этим утром его тартана смогла стать на якорь напротив виллы. Отсюда и опоздание, которое было ему очень невыгодно и сводило почти к минимуму его преимущество во времени перед господином Керабаном.
Теперь Ярхуд был вынужден действовать, не теряя ни дня. План его был разработан до мелочей: сперва хитрость, а если не удастся, тогда — сила. В любом случае требовалось, чтобы в этот же вечер «Гидара» покинула одесский рейд с Амазией на борту. Прежде чем будет поднята тревога и тартану начнут преследовать, она уже окажется вне досягаемости благодаря северо-западным бризам.
Похищения подобного рода все еще осуществляются в некоторых районах побережья, при этом чаще, чем принято думать. Если бы речь шла только об Анатолии! Подобные дела творятся под носом российских властей. Всего несколько лет назад именно Одесса пострадала от серии похищений, исполнители которых остались неизвестными. Несколько молодых девушек, принадлежавших к высшему одесскому обществу, исчезли, и было совершенно ясно, что их заманили на борт кораблей, специализировавшихся на мерзкой торговле рабами для рынков Малой Азии.
Вот что ловкие негодяи проделали в столице южной России. И теперь Ярхуд собирался повторить это в интересах господина Саффара. «Гидара» впервые участвовала в подобном предприятии, и ее капитан рассчитывал получить большую «коммерческую» выгоду.
План Ярхуда заключался в следующем: завлечь молодую девушку на борт «Гидары», чтобы показать и продать ей разные ценные ткани, купленные на лучших фабриках побережья. Очень вероятно, что Ахмет будет сопровождать Амазию при нервом посещении, но, может быть, она придет еще раз с Неджеб? Тогда можно будет выйти в море раньше, чем кто-либо окажет невесте помощь. Если же Амазия не соблазнится предложениями Ярхуда и откажется прийти на борт, то мальтийский капитан попытается похитить ее силой. Усадьба банкира Селима располагалась достаточно уединенно в небольшой бухточке, врезавшейся в берег большого залива, и ее обитатели, конечно, не смогли бы дать отпор экипажу тартаны. Но все-таки — шум, борьба, огласка… А это, понятно, не входило в интересы похитителей.
— Господин Ахмет? — Капитан Ярхуд, которого сопровождал один из его матросов с несколькими отрезами тканей в руках, вопросительно взглянул на юношу.
— Да, это я, — ответил Ахмет. — А вы кто?
— Капитан Ярхуд, командир тартаны «Гидара». Видите, она стоит на якоре вон там, перед домом банкира Селима.
— И что вы хотите?
— Господин Ахмет, — ответил Ярхуд, — я слышал о вашей скорой свадьбе…
— Вы, капитан, слышали о самом важном для меня.
— Я понимаю, — ответил Ярхуд, оборачиваясь к Амазии. — Поэтому мне пришла в голову мысль предложить вам выбрать кое-что из тех богатств, которые я везу, для вашей невесты.
— О, капитан Ярхуд, вам пришла очень даже хорошая мысль! — ответил Ахмет.
— Мой милый Ахмет, у меня есть все, что нужно, — сказала девушка.
— Кто знает? — ответил жених. — У этих левантийских капитанов бывают действительно редкие и ценные вещи. Нужно посмотреть…
— Да! Нужно посмотреть и купить, — воскликнула Неджеб. — Нам стоило бы разорить господина Керабана, чтобы наказать его за опоздание.
— Что же вы везете, капитан? — спросил Ахмет.
— Ценные ткани, разыскиваемые мною в местах их производства. Этим я обычно торгую, — ответил Ярхуд.
— Отлично! Пусть моя невеста и ее камеристка посмотрят. Они разбираются в этом гораздо лучше меня. Я буду счастлив, моя дорогая Амазия, если у капитана «Гидары» среди его груза окажутся ткани, которые вам понравятся.
— Я в этом не сомневаюсь, — ответил Ярхуд. — Впрочем, мы принесли с собой образцы, с ними можно ознакомиться еще до того, как вы подниметесь на борт.
— Посмотрим! Посмотрим! — воскликнула Неджеб. — Но я предупреждаю вас, капитан, что нет ничего, что было бы слишком красиво для моей хозяйки!
— Действительно ничего! — подтвердил Ахмет.
По знаку Ярхуда матрос разложил несколько образцов, и капитан тартаны стал показывать их молодой девушке.
— Вот шелка из Бурсы, вышитые серебром, — сказал он. — Они только что появились на базарах Константинополя.
— Это действительно хорошая работа, — ответила Амазия, разглядывая ткани, которые в ловких пальцах Неджеб сверкали, как если бы они были сплетены из светящихся лучей.
— Посмотрите! Посмотрите! — повторяла молодая цыганка. — Мы не нашли бы лучших даже у одесских купцов!
— Действительно, кажется, что они специально для вас сделаны, моя милая Амазия, — подтвердил Ахмет.
— Я приглашаю вас также хорошенько рассмотреть эти муслины Скутари и Тырново[148]. По этому образцу вы можете судить о совершенстве работы. Но, лишь поднявшись на борт, вы сможете по-настоящему оценить все разнообразие рисунков и блеск этих материалов.
— Решено, капитан, мы посетим «Гидару», — воскликнула Неджеб.
— И вы не пожалеете, — ответил Ярхуд. — Но разрешите мне показать вам еще кое-что. Вот парча, украшенная алмазами, ткани для фередже, муслины для яшмаков[149], персидские шали для пояса, тафта для панталон.
Амазия не переставала любоваться великолепными тканями, которые радужно переливались в ловких руках мальтийского капитана. Да, сомневаться не приходилось, если только Ярхуд был таким же хорошим моряком, как и торговцем, то «Гидара» должна отлично чувствовать себя в плавании! Любая женщина — и турчанки не составляют исключения — соблазнилась бы при виде этих тканей с лучших фабрик Востока.
Ахмет прекрасно видел, с каким восхищением его невеста рассматривает их. И действительно, как сказала Неджеб, базары Одессы и Константинополя, даже магазины знаменитого армянского купца Людовика, не предложили бы более великолепного выбора.
— Милая Амазия, — сказал Ахмет, — вы ведь не захотите, чтобы этот добрый капитан хлопотал впустую? Раз он вам показывает такие чудесные ткани, а на его тартане есть еще более прекрасные, то мы отправимся посетить его судно.
— Да, да! — закричала Неджеб, которая не могла стоять на месте и уже чуть ли не бежала к морю.
— И мы, конечно, найдем там шелковые изделия, что так нравятся этой сумасшедшей Неджеб.
— Э! Разве они не должны делать честь хозяйке, — заметила Неджеб, — в тот день, когда будут праздновать ее свадьбу со столь великодушным господином, как господин Ахмет?
— И особенно со столь добрым! — добавила молодая девушка, протягивая руку своему жениху.
— Ну вот и решено, капитан, — сказал Ахмет. — Вы встретите нас на борту своей тартаны.
— В котором часу? — спросил Ярхуд. — Я ведь хочу быть там, чтобы самолично показать вам все мои богатства.
— Ну… после полудня.
— Почему не сейчас же? — воскликнула Неджеб.
— О, нетерпеливая! — улыбнулась Амазия. — Она еще больше, чем я, торопится посетить этот плавающий базар. Не зря Ахмет обещал ей шелк, который сделает ее еще более кокетливой.
— Кокетливой! — воскликнула Неджеб своим ласкающим голосом. — Я хочу услаждать лишь ваши взоры, моя дорогая хозяйка!
— Только от вас, господин Ахмет, зависит, — сказал капитан Ярхуд, — когда посетить «Гидару». Я могу хоть сейчас окликнуть мою шлюпку. Она причалит у подножия террасы, несколько взмахов весла — и она доставит вас на борт.
— Действуйте, капитан, — ответил Ахмет.
— Да… на борт! — воскликнула Неджеб.
— На борт, раз Неджеб так хочет! — добавила Амазия.
Капитан Ярхуд приказал своему матросу упаковать все образцы, которые он привез. Сам он направился к балюстраде. По его протяжному оклику на палубе тартаны тотчас же началось движение. Большая шлюпка, подвешенная с левого борта, была спущена в море. Затем, меньше чем через пять минут, эта длинная и легкая лодка, движимая четырьмя веслами, причалила к нижним ступеням террасы. Капитан Ярхуд сделал Ахмету знак, что шлюпка в его распоряжении.
Сколь ни велико было самообладание Ярхуда, он все же испытывал сильное волнение. Не использовать ли этот момент для похищения? Время поджимало, так как господин Керабан мог прибыть с часа на час. К тому же ничто не доказывало, что прежде, чем совершить свое сумасшедшее путешествие вокруг Черного моря, он не пожелает отпраздновать в самый короткий срок свадьбу Амазии и Ахмета. Ну, а Амазия, ставшая женой Ахмета, — это совсем не та молодая девушка, которую ожидал дворец господина Саффара!
Да! Капитан Ярхуд внезапно почувствовал желание применить силу. Это как нельзя более соответствовало его грубой натуре, не знавшей осторожности. Кроме того, обстоятельства были благоприятны, ветер — попутный. Тартана, выбравшись из залива, оказалась бы в открытом море прежде, чем возникнет мысль о преследовании, даже если исчезновение молодой девушки будет сразу же замечено. Конечно, если бы не Ахмет, капитан не поколебался бы отплыть в открытое море, пока Амазия и Неджеб доверчиво занимались бы выбором его товаров. Девушек легко сделать узницами нижней палубы, заглушив их крики до выхода из бухты. В присутствии Ахмета все это проделать труднее… Хотя — и это возможно! Ну, а вопрос о том, как освободиться потом от энергичного молодого человека, капитана не смущал. Убийство? Так что ж! И ему есть своя цена. Похищение будет оплачено господином Саффаром еще дороже. Только и всего.
Итак, Ярхуд ждал на ступенях террасы, размышляя, как лучше поступить, когда господин Ахмет со своими спутницами сядут в шлюпку «Гидары».
Ахмет уже помогал Амазии сесть на заднюю скамью шлюпки, когда дверь на галерее открылась. Человек лет пятидесяти, в полутурецком, полуевропейском одеянии, стремительно вошел, крича:
— Амазия?.. Ахмет?
Это был банкир Селим, отец молодой невесты, корреспондент и друг господина Керабана.
— Дочь моя? Ахмет? — зовуще повторил Селим.
Амазия, с помощью жениха, вновь вышла из лодки и устремилась на террасу.
— Папа, что случилось? — спросила она. — Что вас заставило так быстро вернуться из города?
— Большая новость!
— Хорошая? — спросил Ахмет.
— Великолепная! — ответил Селим. — Только что в контору явился нарочный, посланный моим другом Керабаном!
— Возможно ли? — воскликнула Неджеб.
— Нарочный возвещает о прибытии своего господина, — ответил Селим. — И будет это вот-вот!
— Мой дядя Керабан! — повторял Ахмет. — Мой дядя Керабан покинул Константинополь?
— Да, и я жду его здесь.
К большому счастью капитана «Гидары», никто не заметил гневного жеста, от которого он не смог удержаться. Немедленное прибытие дяди Ахмета было серьезнейшим препятствием для осуществления его планов.
— Ах, этот добрый господин Керабан! — воскликнула Неджеб.
— Но зачем он приезжает? — спросила молодая девушка.
— Из-за вашей свадьбы, дорогая хозяйка! — ответила Неджеб. — Иначе что бы ему делать в Одессе?
— Должно быть, так, — согласился Селим.
— Я тоже так думаю, — ответил Ахмет. — Зачем бы ему еще покидать Константинополь? Он, наверное, одумался, мой достойный дядя. Покинул контору, дела, неожиданно, не предупреждая! Это сюрприз, который он захотел нам сделать.
— Какой достойный прием мы ему окажем! — воскликнула Неджеб.
— А нарочный ничего не сказал вам, отец, о причине приезда? — спросила Амазия.
— Ничего, — ответил Селим. — Он просто взял лошадь на почтовой станции Маяки[150], — там остановилась для смены упряжки карета моего друга Керабана. И прискакал объявить мне, что мой друг приедет прямо сюда, не останавливаясь в Одессе. Так или иначе, — с минуты на минуту Керабан появится здесь.
Можно легко догадаться, что отсутствующий друг банкира Селима, дядя — для Амазии и Ахмета, господин Керабан — для Неджеб мог бы услышать в этот момент самые теплые благопожелания в свой адрес. Его появление означало, что свадьба состоится в ближайшее время и счастье жениха и невесты — не за горами. Больше никаких отсрочек столь долгожданного союза! Так что, господин Керабан, будучи самым упрямым, оказался еще и самым лучшим из людей.
Ярхуд бесстрастно присутствовал при всей этой семейной сцене и не отсылал свою шлюпку. Ему было важно теперь узнать, каковы истинные намерения господина Керабана и действительно ли следовало опасаться, что он пожелает отпраздновать свадьбу Амазии и Ахмета прежде, чем вновь продолжит свою поездку вокруг Черного моря.
В этот момент снаружи послышались голоса, один из которых перекрывал все остальные. Дверь открылась, и появился господин Керабан, за которым следовали ван Миттен, Бруно и Низиб.
Глава десятая,
в которой Ахмет принимает энергичное решение, обусловленное, впрочем, обстоятельствами.
— Здравствуй, друг Селим! Здравствуй! Да сохранит Аллах тебя и весь твой дом!
Сказав это, негоциант крепко пожал руку своего одесского корреспондента.
— Здравствуй, племянник Ахмет!
И господин Керабан прижал своего племянника Ахмета к груди в мощном объятии.
— Здравствуй, моя маленькая Амазия!
Торговец поцеловал в обе щеки молодую девушку, которая должна была стать его племянницей.
Все это произошло так быстро, что никто не успел даже ответить.
— А теперь до свидания… и в дорогу! — продолжил господин Керабан, поворачиваясь к ван Миттену.
Флегматичный голландец даже не был представлен — до того господин Керабан спешил. Со своим бесстрастным выражением лица ван Миттен казался каким-то нереальным персонажем во всей этой фантасмагорической сцене.
Видя, как господин Керабан расточает поцелуи и рукопожатия, присутствующие не усомнились, что он прибыл, чтобы ускорить бракосочетание. Но, услышав восклицание «в дорогу», они были ошеломлены.
Первым пришел в себя и вмешался в разговор Ахмет:
— Как «в дорогу»?
— Да, племянник, в дорогу!
— Вы снова уезжаете, дядя?
— Тотчас же!
Это заявление вызвало еще большее изумление, а ван Миттен прошептал на ухо Бруно:
— Чему тут удивляться! Происходящее — вполне в духе моего друга Керабана!
— Вполне, — кивнул Бруно.
Тем временем Амазия продолжала смотреть на Ахмета, тот глядел на Селима, а Неджеб просто не спускала глаз с этого невероятного дяди — человека, способного уехать, даже не приехав как следует!
— Пойдемте, ван Миттен, — сказал господин Керабан, направляясь к двери.
— Сударь, вы мне объясните, в чем дело? — обратился Ахмет к ван Миттену.
— Что я могу к этому добавить? — пожал плечами голландец, который уже шел по пятам за своим другом.
Однако, уже почти выходя, господин Керабан неожиданно остановился и спросил, обращаясь к банкиру:
— Кстати, друг Селим, вы обменяете мне несколько тысяч пиастров на рубли по их стоимости?
— Несколько тысяч пиастров?.. — переспросил Селим, даже не пытаясь уже что-либо понять.
— Да, Селим, мне нужны русские деньги для проезда по российской территории.
— Но, дядя, что случилось, наконец? — воскликнул Ахмег, к которому присоединилась молодая девушка.
— По какой расценке их сегодня обменивают? — спросил господин Керабан.
— Три с половиной за сто, — ответил Селим, в котором на момент проснулся банкир.
— Что? Три с половиной?
— Курс рубля идет на повышение, — ответил Селим. — Он пользуется спросом на рынке…
— Ладно, для меня, друг Селим, будет только три с четвертью! Вы слышите? Три с четвертью!
— Для вас, да!.. Для вас, друг Керабан, даже без каких-либо комиссионных!
Очевидно, банкир Селим не понимал больше, что он говорит и делает.
Само собой разумеется, что из глубины галереи Ярхуд наблюдал всю эту сцену с предельным вниманием, взвешивая возможные последствия для своих планов.
В этот момент Ахмет схватил дядю за руку, остановил его на пороге и не без труда вынудил вернуться.
— Дядя, — сказал он ему, — вы обняли всех нас в момент, когда приехали…
— Вовсе нет, вовсе нет, племянник, — ответил Керабан. — В момент, когда я уже уезжал!
— Пусть так, дядя! Не хочу вам противоречить… Но, по крайней мере, скажите нам, зачем вы приехали в Одессу.
— Я приехал в Одессу, — ответил негоциант, — только потому, что этот город на моем пути. Если бы Одесса не была на этом маршруте, то я не оказался бы здесь! Верно, ван Миттен?
Голландец удовольствовался тем, что сделал утвердительный знак, медленно опустив голову.
— А, да! Вы не были представлены, и мне нужно это сделать, — спохватился господин Керабан. — Мой друг ван Миттен, — представил он, обращаясь к Селиму, — корреспондент из Роттердама, которого я везу обедать в Скутари.
— В Скутари? — удивился банкир.
— Да… кажется… — проронил ван Миттен.
— И его лакей Бруно, — прибавил Керабан, — добрый слуга, который не пожелал расстаться со своим хозяином.
— Кажется… — отозвался, как верное эхо, Бруно.
— А теперь в дорогу!
Но тут в разговор снова вмешался Ахмет.
— Пусть так, дядя, — сказал он, — и поверьте, что ни у кого здесь нет желания спорить с вами… Но если вы приехали в Одессу, потому что она находится на вашем пути, то каким же маршрутом вы хотите следовать, чтобы добраться из Константинополя в Скутари?
— Маршрутом, который идет вокруг Черного моря.
— Вокруг Черного моря! — воскликнул Ахмет.
Последовала минутная тишина.
— Ну да, — снова заговорил Керабан. — А что такого необычного, удивительного в том, что я еду из Константинополя в Скутари вокруг Черного моря?
Банкир Селим и Ахмет переглянулись. Не сошел ли богатый негоциант из Галаты с ума?
— Друг Керабан, — начал Селим, — мы вовсе не собираемся вам возражать…
Это была обычная фраза, которой предусмотрительно начинали любой разговор с упрямым героем.
— Мы не хотим вам возражать, но нам кажется, чтобы прямо двигаться из Константинополя в Скутари, нужно всего-навсего пересечь Босфор.
— Нет больше Босфора!
— Как это нет?.. — поразился Ахмет.
— По крайней мере, для меня. Он есть только для тех, кто хочет подчиниться и платить несправедливый сбор в десять пара с человека. Налог, которым правительство новых турок только что обложило эти воды, до сего дня свободные от любых сборов!
— Что? Новый налог? — воскликнул Ахмет, который в один миг понял, в какую авантюру неискоренимое упрямство ввергло его дядю.
— Да, — продолжил господин Керабан, возбуждаясь все больше и больше. — В тот момент, когда я собирался сесть в свой каик, чтобы отправиться пообедать в Скутари… с моим другом ван Миттеном, этот налог в десять пара был как раз и установлен! Естественно, я отказался платить. Тогда мне решили воспрепятствовать. А я сказал, что смогу съездить в Скутари, не пересекая Босфора. Они заметили, что ничего не получится. Я ответил, что получится. И получится! Клянусь Аллахом! Скорее отрежу себе руку, чем полезу в карман за этими десять пара. Нет! Клянусь Мухаммадом! Клянусь Мухаммадом! Они не знают Керабана!
Очевидно, они действительно не знали Керабана. Но зато друг Селим, племянник Ахмет, ван Миттен, Амазия знали его и хорошо понимали, что после всего происшедшего было невозможно заставить торговца изменить решение. Так что нужно было принимать ситуацию как она есть и не спорить, поскольку это только еще больше усложнило бы положение.
Все было столь ясно, что не требовалось никакого обсуждения.
— Ну что ж, дядя, вы правы, — сказал Ахмет.
— Абсолютно правы, — добавил Селим.
— Всегда прав! — подтвердил Керабан.
— Нужно сопротивляться несправедливым притязаниям, — сказал Ахмет, — сопротивляться, даже если бы это стоило вам состояния.
— И жизни! — прибавил Керабан.
— Так что вы хорошо сделали, отказавшись платить налог и показав, что вы сумеете добраться из Константинополя в Скутари, не пересекая Босфор…
— И не тратя десять пара, — добавил Керабан, — даже если бы это стоило мне пятьсот тысяч.
— Но я думаю, что вы не слишком торопитесь уехать? — спросил Ахмет.
— Слишком тороплюсь, племянник, — ответил Керабан. — Нужно, и ты знаешь почему, чтобы я вернулся до истечения шести недель.
— Хорошо! Но, милый дядя, вы могли бы уделить нам какие-нибудь восемь дней в Одессе?..
— Ни пяти дней, ни четырех, ни одного, — ответил Керабан, — даже ни одного часа!
Ахмет, видя, что натура Керабана берет верх, сделал Амазии знак вмешаться.
— А наша свадьба, господин Керабан? — сказала девушка, беря его под руку.
— Твоя свадьба, Амазия, — ответил Керабан, — никоим образом не будет отложена. Нужно, чтобы она состоялась до конца будущего месяца. Отлично, она состоится! Мое путешествие не отсрочит ее ни на день… при условии, что я уеду, не теряя ни мгновения.
Так рухнула постройка из надежд, которую все возвели на основе неожиданного прибытия господина Керабана. Свадьба не будет ни ускорена, ни отсрочена, говорит он. Но кто может поручиться, что случайности столь долгого и трудного путешествия не помешают задуманному?
Ахмет не смог удержать жест досады, который, к счастью, не был замечен его дядей. Не увидел Керабан и облачка, омрачившего лоб Амазии, как не слышал бормотание Неджеб:
— Вот негодный дядя!
— Впрочем, — прибавил торговец тоном человека, не привыкшего к возражениям, — впрочем, я рассчитываю, что Ахмет будет меня сопровождать.
— Черт! Вот прямой удар, который трудно парировать! — сказал вполголоса ван Миттен.
— Его и не парируют, — ответил Бруно.
В самом деле, Ахмет как будто получил удар в солнечное сплетение. Амазия, пораженная объявлением об отъезде своего жениха, неподвижно застыла рядом с Неджеб. А та, в свою очередь, готова была вырвать глаза у господина Керабана.
В глубине галереи капитан «Гидары» не пропустил ни слова из этого разговора. Было очевидно, что дела принимали благоприятный оборот для его планов.
Хотя у Селима было мало надежды изменить решение своего друга, он все же счел себя обязанным вмешаться и сказал:
— Это необходимо, Керабан, чтобы ваш племянник путешествовал вокруг Черного моря?
— Необходимо? Нет, — ответил Керабан, — но я думаю, что Ахмет без колебаний захочет сопровождать меня.
— Но… — заговорил снова Селим.
— Но? — переспросил дядюшка, уже начиная стискивать зубы, как это случалось с ним в начале всякого спора.
Минутная тишина, последовавшая за последними словами господина Керабана, показалась бесконечной. Ахмет так и не решился возразить дяде и попытался успокоить Амазию. Он шепнул ей, что, как ни огорчителен этот отъезд, лучше все же не сопротивляться. Без него в путешествии могут произойти всякого рода задержки. А при его участии поездка, напротив, может закончиться гораздо быстрее: ведь он в совершенстве знает русский язык, и это поможет не потерять ни дня, ни часа. Кто, как не он, Ахмет, сумеет заставить дядю ехать быстрее, чего бы это ему самому ни стоило? В любом случае Керабан окажется на левом берегу Босфора до конца будущего месяца, и ничто не помешает Амазии в свой срок получить по теткиному завещанию значительное состояние.
У невесты не было силы, чтобы сказать «да», но и она понимала, что это будет лучшим решением.
— Хорошо, дядя, договорились, — сообщил Ахмет. — Буду вас сопровождать и готов ехать, но…
— А! Никаких условий, племянник!
— Пусть так, без условий! — ответил Ахмет, а про себя он добавил: «Я сумею заставить тебя побегать, даже если от воплей зайдешься, упрямейший из дядей!»
— В дорогу же, — сказал Керабан.
И, обернувшись к Селиму, с новой энергией вопросил:
— А рубли в обмен на мои пиастры?
— Я вручу их в Одессе, до которой буду сопровождать вас, — ответил Селим.
— Вы готовы, ван Миттен? — спросил Керабан.
— Как всегда.
— Итак, Ахмет, — продолжил Керабан, — поцелуй свою нареченную, поцелуй ее хорошенько, и поехали!
Ахмет уже обнимал невесту, и Амазия не могла сдержать слез.
— Ахмет, мой дорогой Ахмет, — повторяла она.
— Не плачьте, дорогая Амазия! — уговаривал Ахмет. — Если наша свадьба не ускорилась, то она не будет и отложена. Обещаю вам это… Я булу отсутствовать только несколько недель.
— Дорогая хозяйка, — сказала Неджеб, — хоть бы господин Керабан сломал себе ногу или обе, прежде чем выйти отсюда! Хотите, чтобы я занялась этим?
Но Ахмет приказал молодой цыганке соблюдать спокойствие, и хорошо сделал: Неджеб была способна на все, чтобы остановить этого несносного дядюшку.
Наконец последние возгласы прощаний и поцелуи закончились. Все чувствовали себя взволнованно. Даже голландец испытывал нечто вроде сердечного стеснения. Один господин Керабан не видел или не хотел видеть всеобщей растроганности.
— Карета готова? — спросил он у Низиба, который как раз в этот момент вышел на галерею.
— Карета готова, — ответил Низиб.
— В дорогу! — сказал негоциант. — А, господа современные османы, одевающиеся по-европейски! А, господа новые турки, не умеющие больше быть жирными!
Именно в этом, очевидно, и заключался непростительный грех в глазах господина Керабана.
— А, господа ренегаты[151], подчиняющиеся предписаниям Махмуда! Я покажу, что есть еще старые верующие, над которыми вы никогда не восторжествуете!
Никто господину Керабану не противоречил, и тем не менее он воодушевлялся все больше и больше.
— А, вы стремитесь монополизировать Босфор для своей выгоды! Отлично, я обойдусь без пролива! Наплевать мне на ваш Босфор! Что, ван Миттен?
— Я ничего не говорю, — пожал плечами ван Миттен, который и правда даже рта не раскрывал.
— Ваш Босфор! Их Босфор! — продолжал господин Керабан, протягивая руку в сторону юга. — К счастью, там Черное море! У него есть побережье. И оно существует не только для водителей караванов. Я пойду по нему, обогну его! Э, друзья мои, можете ли вы только представить себе кислую гримасу, которую состроят правительственные служащие, когда они увидят меня на высотах Скутари! Меня, не бросившим даже полпара в их чашку нищих администраторов!
Нужно признать, что господин Керабан был великолепен, произнося эти грозные проклятия.
— Идемте, Ахмет! Идемте, ван Миттен! — воскликнул он. — В дорогу! В дорогу! В дорогу!
Он был уже в дверях, когда Селим остановил его.
— Друг Керабан, — сказал он, — одно простое соображение.
— Никаких соображений!
— Хорошо, одно простое замечание, которое я хотел бы сделать вам.
— А у нас есть время?
— Послушайте меня, друг Керабан. Закончив это путешествие вокруг Черного моря и прибыв в Скутари, что вы будете делать?
— Я?.. Ну я… я…
— Вы, я полагаю, не собираетесь обосноваться в Скутари навсегда, забыв о Константинополе, где, как-никак, ваш торговый дом?
— Нет… — ответил Керабан, поколебавшись какое-то время.
— В самом деле, дядя, — заметил Ахмет, — коль скоро вы упорствуете в том, что больше не пересечете Босфор, наша свадьба…
— Друг Селим, нет ничего проще! — заговорил Керабан, хотя чувствовалось, что заданный ему вопрос продолжает затруднять его. — Кто помешает вам приехать вместе с Амазией в Скутари? Всего десять пара с каждого — и вы переберетесь через их Босфор. Ведь ваша честь не вовлечена в это дело, в отличие от моей!
— Да, да! Приезжайте в Скутари через месяц! — воскликнул Ахмет. — Будете нас там ждать, милая Амазия, а мы постараемся не задерживаться слишком долго.
— Хорошо! Отправляйтесь в Скутари, — ответил Селим. — Именно там мы отпразднуем свадьбу. Но, друг Керабан, вы, значит, не вернетесь в Константинополь после свадьбы?
— Я вернусь, — воскликнул Керабан, — конечно же я вернусь!
— А как?
— Ну… Или этот оскорбительный налог будет отменен, и я перееду через Босфор, не платя…
— А если он не будет отменен?
— Если он не будет отменен… — ответил господин Керабан с величественным жестом. — Клянусь Аллахом, я вернусь по этому же пути и повторю путешествие вокруг Черного моря!
Глава одиннадцатая,
в которой в эту фантастическую историю о путешествии начинает примешиваться драматический момент.
Все уехали, покинув виллу. Господин Керабан — чтобы совершить путешествие, ван Миттен — сопровождать своего друга, Ахмет — следовать за дядей, Низиб и Бруно — потому, что они не могли поступить иначе. Дом опустел, если не считать пяти или шести слуг, занимавшихся своими обязанностями. Сам банкир Селим уехал в Одессу, чтобы вручить путешественникам рубли в обмен на их турецкие пиастры.
Две молодые девушки, Амазия и Неджеб, остались на вилле почти одни.
Мальтийский капитан хорошо знал это. Все перипетии[152] предшествовавшей сцены прощания наблюдались им с интересом, который легко понять. Отложит ли господин Керабан свадьбу Амазии и Ахмета до своего возвращения? Он отложил ее — вот первая счастливая карта в игре капитана. Согласится ли Ахмет сопровождать своего дядю? Согласился — вторая счастливая карта!
Наконец, и третья — самая главная: Амазия и Неджеб остались теперь в одиночестве на вилле или, по крайней мере, в галерее, выходившей прямо на море. Тартана находилась в полукабельтове. Шлюпка ждала у подножия лестницы. Матросы повиновались по первому знаку. Теперь все зависело от его желания.
Было очень соблазнительно применить силу, чтобы завладеть Амазией. Но, — осторожность прежде всего! Не полагаясь на волю случая и решив к тому же не оставлять никаких следов похищения, Ярхуд принялся размышлять.
Был самый разгар дня. Если он попытается действовать силой, то Амазия позовет на помощь. К этому присоединит свои крики Неджеб. Они могут быть услышаны слугами. А те увидят, как «Гидара» торопится покинуть Одесский залив. И это наведет на след… Нет! Лучше, пожалуй, дождаться ночи. Важно, чтобы отсутствовал Ахмет. А его не будет!
Поэтому мальтиец остался сидеть в отдалении, на корме своей шлюпки, которую частично скрывала балюстрада[153], и продолжал следить за обеими девушками, не подозревавшими о присутствии этой опасной личности.
А вообще-то, если бы, как условились, Амазия и Неджеб прибыли на борт тартаны закупить ткани, там было бы видно — уместно ли действовать сразу или все-таки дожидаться ночи. К такому выводу пришел наконец Ярхуд.
После отъезда Ахмета Амазия, сраженная этим неожиданным событием, молчаливо и задумчиво смотрела на далекий горизонт, уходивший в сторону севера. Там вырисовывалось побережье. По нему должны были упорно следовать путешественники; там была дорога, на которой задержки и, возможно, опасности подвергали испытанию господина Керабана и всех, кого он увлек за собой, вопреки их воле. Если бы свадьба уже состоялась, то она не поколебалась бы сопровождать Ахмета! Дядя не захотел бы противодействовать. Нет! Ей казалось, что, став племянницей Керабана, она обрела бы влияние на него. Уж тогда-то ей удалось бы остановить дядю на том опасном пути, по которому его увлекало упрямство. А теперь, оставшись в одиночестве, невеста должна ждать много недель… Только после этого они встретятся с Ахметом на вилле в Скутари, где совершится их бракосочетание.
Но если Амазия грустила, то Неджеб была в ярости от этого упрямца — причины всех разочарований. О, если бы речь шла о ее собственном браке, молодая цыганка не позволила бы вот так похитить своего жениха! Она смогла бы противостоять самодуру! Нет! Все было бы по-другому.
Неджеб подошла к Амазии. Взяла ее за руку, подвела к дивану, заставила сесть и, подхватив подушку, устроилась у ног госпожи.
— Милая хозяйка, — начала она, — на вашем месте вместо того, чтобы сокрушаться о господине Ахмете, я обрушила бы проклятья на голову господина Керабана.
— Какой смысл? — спросила Амазия.
— По-моему, это было бы не так грустно, — сказала Неджеб. — Если хотите, мы обрушим на него целую гору проклятий! Он их заслуживает, и уверяю вас, что я примерно его накажу!
— Нет, Неджеб, — остановила служанку Амазия. — Поговорим лучше об Ахмете. Я должна думать только о женихе. Лишь о нем!
— Ну что ж, поговорим, дорогая хозяйка, — согласилась Неджеб. — Это действительно самый очаровательный жених, о каком может мечтать девушка. Но дядя его! Этот деспот[154], эгоист мог сказать только одно слово, но не сказал! Ему надо было уделить нам только несколько дней, а он отказался! Поистине такой господин заслуживает…
— Давай говорить об Ахмете.
— Да, милая хозяйка! Как он вас любит! Какой счастливой вы с ним будете! О, Ахмет был бы совершенством, если бы не подобный дядя! Из чего он только сделан? Знаете, Керабан хорошо поступил, что не взял себе жену. Одну или нескольких. Своим упрямством он взбунтовал бы всех, вплоть до рабов своего гарема!
— Опять ты о нем говоришь, Неджеб? — упрекнула Амазия, мысли которой шли совсем по другому пути.
— Нет, нет!.. Я буду говорить о господине Ахмете! Как и вы, думаю только о вашем женихе. Но знаете, я на его месте не сдалась бы, настаивала… Раньше мне казалось, что он более энергичен.
— Кто сказал тебе, Неджеб, что Ахмету было легче уступить настояниям дяди, чем воспротивиться им? Если выбирать из двух зол, то все же лучше ему участвовать в поездке. По крайней мере, он сможет ускорить ее и предупредить возможные опасности, с которыми господин Керабан рискует столкнуться из-за своего обычного упрямства. Уехав, Ахмет подтвердил свою смелость и дал мне новое доказательство своей любви!
— Вы, наверное, правы, дорогая хозяйка! — ответила Неджеб, с трудом усмиряя свою бунтующую цыганскую кровь. — Да, господин Ахмет, уезжая, показал себя энергичным человеком… Но было бы еще более достойным — помешать своему дяде уехать!
— А это разве возможно, Неджеб? — спросила Амазия. — Я тебя спрашиваю, было ли это возможно?
— Да! Нет! Может быть! — ответила Неджеб. — Нет такого железного стержня, который нельзя было бы согнуть… или сломать, если нужно. Ох уж этот дядя Керабан! Именно за него надо браться. И если произойдет какое-нибудь несчастье, то он один будет виноват во всем. Чтобы не платить десять пара, этот господин причиняет несчастье господину Ахмету, вам и, следовательно, мне. Я хотела бы… Да, хотела, чтобы Черное море вышло из берегов и разлилось до края мира… А мы посмотрели бы, будет ли он и тогда упрямиться, желая совершить свою поездку.
— Он совершил бы ее, — ответила Амазия тоном глубокой убежденности. — Но давай говорить об Ахмете, Неджеб, и только о нем!
В этот момент Ярхуд, покинув свою шлюпку, незаметно подходил к обеим девушкам. При шуме его шагов они обернулись. Появление капитана вызвало у них удивление, смешанное с легким испугом.
Неджеб первой пришла в себя.
— Вы, капитан? — спросила она. — Что вы здесь делаете? Что вы хотите?
— Я ничего не хочу, — ответил Ярхуд, делая вид, что удивлен таким приемом. — Разве что предоставить себя в ваше распоряжение, чтобы…
— Чтобы? — повторила Неджеб.
— Чтобы отвезти вас на борт тартаны, — ответил капитан. — Разве вы не решили осмотреть ее груз и выбрать то, что вам подошло бы?
— Верно, дорогая хозяйка, — воскликнула Неджеб. — Мы обещали капитану…
— Мы обещали, когда Ахмет был еще здесь, — заметила Амазия. — Теперь он уехал, и нам не подобает посещать судно без него.
Капитан нахмурился, но через минуту сказал самым спокойным голосом:
— «Гидара» не может долго задерживаться в Одесском заливе, и, возможно, я приду завтра или, самое позднее, послезавтра. Если невеста господина Ахмета все же хочет приобрести некоторые ткани, образцы которых ей, кажется, понравились, то нужно будет воспользоваться этой возможностью. Моя шлюпка вон там, и в считанные минуты мы сможем оказаться на борту.
— Мы благодарим вас, капитан, — холодно ответила Амазия, — у меня мало желания заниматься подобными прихотями в отсутствие Ахмета. Он должен был сопровождать нас на «Гидару», помочь своими советами… Но его нет, а без него я не могу и не хочу ничего делать.
— Сожалею, — ответил Ярхуд, — тем более что не сомневаюсь: вернувшись, господин Ахмет был бы приятно удивлен, если бы вы сделали эти покупки.
— Возможно, капитан, — ответила Неджеб, — но сейчас, я думаю, вам лучше не настаивать на этом.
— Хорошо, — откланялся Ярхуд, — Однако хочу надеяться, что, если через несколько недель случай приведет «Гидару» в Одессу, вы не забудете, что обещали посетить ее.
— Мы не забудем, капитан, — ответила Амазия, давая понять мальтийцу, что ему пора удалиться.
Ярхуд попрощался с обеими девушками и сделал несколько шагов к террасе. Затем, остановившись, как если бы ему неожиданно пришла некая идея, вернулся к Амазии как раз в тот момент, когда она собиралась покинуть галерею.
— Еще одно слово, — сказал он, — или, вернее, предложение, которое не может не понравиться невесте господина Ахмета.
— О чем идет речь? — спросила Амазия, уже испытывавшая некоторое раздражение от того упрямства, с каким мальтийский капитан навязывал ей на вилле свое общество.
— Случайно я стал свидетелем той сцены, которая предшествовала отъезду господина Ахмета.
— Случайно? — переспросила Амазия, становясь подозрительной в силу некоего предчувствия.
— Только случайно! — приложил руку к груди Ярхуд. — Я был там, в моей шлюпке, продолжавшей ожидать вас…
— Какое предложение вы хотите нам сделать, капитан? — резко прервала его объяснения девушка.
— Очень естественное предложение, — ответил Ярхуд. — Я видел, насколько дочь банкира Селима была огорчена этим неожиданным отъездом, и думаю, что ей было бы приятно еще раз увидеть господина Ахмета?
— Увидеть еще раз! Что вы хотите сказать? — заволновалась Амазия.
— Я хочу сказать, — продолжал Ярхуд, — что через час экипаж господина Керабана неизбежно проедет рядом с оконечностью небольшого мыса, который вы там видите.
Амазия подошла и посмотрела на легкий изгиб берега в месте, на которое указывал капитан.
— Там? Там? — спрашивала она.
— Да.
— Дорогая хозяйка, — воскликнула Неджеб, — вот если бы мы могли добраться до этой оконечности!
— Нет ничего легче, — заметил Ярхуд. — Благодаря попутному ветру «Гидара» за полчаса может достичь этого мыса. Если хотите взойти на борт, то мы сразу же снимемся с якоря.
— Да! Да! — воскликнула Неджеб, которая видела в этой прогулке но морю лишь возможность для Амазии увидеть еще раз своего жениха.
Но Амазия стала размышлять. Видя это колебание, капитан не смог удержаться от движения, которое не укрылось от Амазии. Ей пришла в голову мысль, что выражение физиономии Ярхуда не говорит в его пользу, и она снова стала недоверчивой.
Покинув балюстраду, на которой она стояла, облокотившись на локоть, чтобы лучше видеть линию берега, Амазия вернулась на галерею вместе с Неджеб, руку которой держала в своей.
— Жду ваших приказаний, — сказал капитан.
— Приказаний не будет, — ответила Амазия. — Думаю, я доставлю своему жениху больше огорчения, чем радости, если увижу его в столь печальных обстоятельствах.
Ярхуд, понимая, что ничто не заставит девушку переменить решение, молча удалился.
Через миг лодка с мальтийским капитаном и его людьми уже отчаливала. Затем она пристала к тартане, пришвартовавшись к ее левому борту, развернутому в сторону открытого моря.
Обе девушки оставались на галерее в одиночестве еще в течение часа. Амазия снова вернулась к балюстраде, упрямо продолжая смотреть на ту точку побережья, которую показывал Ярхуд и где должна была проехать карета господина Керабана.
Неджеб тоже всматривалась в этот изгиб берега, протянувшийся примерно на лье к северу. Через час молодая цыганка воскликнула:
— О, дорогая хозяйка, посмотрите, посмотрите! Видите карету, которая следует по дороге там, на вершине скалы?
— Да, да! — оживилась Амазия. — Это они! Это он, он!
— Господин Ахмет не может вас видеть…
— Не важно! Я чувствую, что его взгляд устремлен сюда.
— Не сомневайтесь, дорогая хозяйка! — защебетала Неджеб. — Господин Ахмет зорок, как орел, и сможет разглядеть среди деревьев виллу в глубине бухты и, возможно, нас…
— До свидания, мой Ахмет! До свидания! — сказала в последний раз девушка, как будто ее голос мог достичь жениха.
После того, как почтовая карета исчезла за поворотом дороги на дальнем склоне скалы, Амазия и Неджеб покинули галерею.
На палубе тартаны Ярхуд видел, как они удалились в глубину дома, и приказал вахтенному следить, когда они снова появятся, возможно, ближе к ночи. Вот тогда-то и придется применить силу, коль скоро не удалась хитрость!
Разумеется, после отъезда Ахмета и при том удачном обстоятельстве, что свадьба состоится не раньше, чем через шесть недель, с похищением молодой девушки можно было особенно не спешить. Но как не считаться с нетерпением господина Саффара, который вот-вот вернется в Трапезунд?! Кроме того, из-за трудностей плавания в Черном море их парусное судно рискует и опоздать дней на пятнадцать — двадцать. Следовательно, требовалось отплыть как можно раньше, если Ярхуд хотел прибыть ко времени, назначенному интендантом Скарпантом. Ярхуд, безусловно, был мерзавцем, но при этом пунктуальным. Отсюда и его планы действовать, не теряя ни мгновения.
Сложившиеся обстоятельства чрезвычайно ему благоприятствовали. К вечеру, еще до возвращения ее отца из банка, Амазия снова вошла в галерею. На этот раз она была одна. Не дожидаясь наступления ночи, девушка пожелала еще раз посмотреть на далекую панораму скал, закрывавших горизонт с севера. Именно туда стремилось ее сердце. Девушка снова подошла к балюстраде и облокотилась на нее. Некоторое время она оставалась задумчивой и взгляд ее блуждал где-то очень далеко. Поэтому, погруженная в свои мысли, Амазия не заметила лодки, которая отделилась от «Гидары», уже едва видимой в сгущающихся сумерках. Не видела, как эта лодка бесшумно приблизилась, проплыла, огибая лестницу террасы, и остановилась у первых ступенек, омываемых водами бухты.
Ярхуд в сопровождении трех матросов проскользнул ползком по ступеням.
Молодая девушка, погруженная в свои мысли, по-прежнему ничего не замечала.
Внезапно Ярхуд прыгнул на нее и схватил с такой силой и так ловко, что сопротивляться не было никакой возможности.
— Ко мне! Ко мне! — смогла все же крикнуть бедная девушка.
Ее крики были сразу же заглушены, но их успела услышать Неджеб, искавшая хозяйку. Едва молодая цыганка появилась в галерее, как двое из матросов бросились на нее. Она не смогла ни шевельнуться, ни даже вскрикнуть.
— На борт! — скомандовал Ярхуд.
Обе девушки оказались в лодке, немедленно отчалившей по направлению к тартане.
«Гидара», якорь и парус которой были подняты, в мгновение ока приготовилась к отплытию со своими пленницами. Амазию и Неджеб поместили в кормовой каюте так, что они не могли ни видеть что-либо, ни кричать.
Вскоре тартана уже шла при попутном ветре, накренившись под большим парусом…
Но сколь ни быстро было совершено насилие, оно все же привлекло внимание нескольких слуг, работавших в садах. Один из них услышал крик Амазии и тотчас же поднял тревогу.
В это время банкир Селим возвращался домой. Ему сообщили о происшедшем. Крайне взволнованный, он бросился искать дочь. Но та исчезла. Видя, как тартана продвигается, чтобы обогнуть южную оконечность маленькой бухточки, Селим понял все и побежал сквозь сады по побережью — он знал, где, совсем близко, должна была пройти «Гидара», чтобы избежать скал.
— Негодяи! — кричал он. — Похищают мою дочь! Моя дочь! Амазия! Остановите их! Остановите!
Выстрел с палубы «Гидары» был единственным ответом на его призыв.
Раненный пулей в плечо, Селим упал. Через несколько мгновений тартана, уносимая свежим вечерним бризом, исчезла в открытом море.
Глава двенадцатая,
в которой ван Миттен рассказывает историю о тюльпанах, которая, возможно, заинтересует читателя.
Запряженная свежими лошадьми почтовая карета покинула Одессу около часа после полудня. Господин Керабан занимал левый угол кабины, ван Миттен — правый, Ахмет поместился посередине. Бруно и Низиб устроились в кабриолете, где большую часть времени они посвящали сну.
Веселое солнце оживляло сельский пейзаж, а вода моря темной голубизной контрастировала с сероватой поверхностью скал побережья.
В кабине царила такая же тишина, как и в кабриолете, но если наверху дремали, то внизу размышляли.
Господин Керабан с наслаждением погружался в свои мечтания и думал только о той шутке, которую он собирался сыграть с оттоманскими властями.
Ван Миттен раздумывал о непредвиденном путешествии и все время спрашивал себя, почему он, гражданин батавских провинций, оказался заброшенным на прибрежные черноморские дороги, когда мог спокойно остаться в предместье Пера в Константинополе.
Ахмет, как известно, добровольно принял участие в этой поездке. Он твердо решил не жалеть кошелька своего дяди во всех случаях, когда при помощи денег можно будет избежать задержки или препятствия. При этом ехать возможно более коротким путем и — быстрее, быстрее!
Молодой человек перебирал в уме все эти возможности. И тут, огибая маленький мыс, он заметил в глубине бухты виллу банкира Селима. Его взгляд задержался на ней, вероятно, в тот момент, когда глаза Амазии были устремлены на него и, возможно, их взгляды пересеклись.
Затем, решив затронуть одну из деликатнейших проблем, Ахмет обратился к своему дяде с вопросом, достаточно ли тщательно тот наметил все детали маршрута.
— Да, племянник, — ответил Керабан. — Мы все время будем следовать по дороге, огибающей побережье.
— И сейчас мы направляемся…
— В Коблево, в дюжине лье от Одессы. Я рассчитываю прибыть туда сегодня вечером.
— А побывав в Коблево? — продолжал спрашивать Ахмет.
— Мы будем ехать всю ночь, племянник, чтобы прибыть в Николаев[155] завтра к полудню.
— Отлично, дядя Керабан! Ехать нужно быстро. Но после Николаева не хотите ли вы всего за несколько дней добраться до кавказских уездов?
— Но как?
— Воспользовавшись железными дорогами юга России, которые через Александровск[156] и Ростов позволят нам пройти добрую треть нашего пути.
— Железные дороги? — воскликнул Керабан.
В этот момент ван Миттен слегка толкнул локтем своего молодого спутника.
— Бесполезно, — сказал он ему вполголоса. — Бессмысленное обсуждение. Отвращение к железным дорогам…
Ахмет знал, разумеется, каковы были мысли его дяди об этих средствах передвижения, слишком современных для верного сторонника старотурецкой партии. Но ему казалось, что в этих обстоятельствах господин Керабан мог бы, в конце концов, хотя бы раз пожертвовать своими драгоценными предубеждениями.
Уступить, хоть на миг, в одном каком-либо вопросе? Но тогда Керабан не был бы больше самим собой.
— Ты говоришь о железной дороге, я полагаю? — спросил он.
— Конечно, дядя.
— И хочешь, чтобы я, Керабан, согласился сделать то, что никогда еще не позволял себе?
— Мне кажется, что…
— Тебе хочется, чтобы я, Керабан, глупейшим образом разрешил тащить себя паровой машине?
— Когда вы попытаетесь…
— Ахмет, ты не подумал о том, что имеешь дерзость предлагать мне!
— Но, дядя…
— Я говорю, что ты не подумал, коль скоро позволяешь себе подобное предложение!
— Уверяю вас, дядя, что в этих вагонах…
— Вагонах? — ухмыльнулся Керабан, повторяя это иностранное слово с интонацией, которую невозможно передать.
— Да… эти вагоны, которые скользят по рельсам…
— Рельсам? — поспешно спросил Керабан. — Что это за ужасные слова? И на каком языке мы разговариваем, сударь?
— На языке современных путешественников.
— Скажи-ка, племянник, — ответил упрямый герой, начиная уже раздражаться, — разве у меня вид современного путешественника, который согласился бы подняться в вагон и дать тянуть себя машине? И что за необходимость скользить по рельсам, если я могу катиться по дороге?
— Но когда торопятся, дядя…
— Ахмет, посмотри мне в лицо и запомни: если не будет больше карет, я поеду на телеге; не отыщется телеги — сяду на лошадь; не достану лошади — поеду на осле, исчезнут все ослы — пойду пешком; не смогу идти — поползу на коленях; лишусь колен…
— Друг Керабан, остановитесь Бога ради! — воскликнул ван Миттен.
— …поползу на животе! — выкрикнул возбужденный господин Керабан. — Да! На животе!
И, схватив Ахмета за руку, он продолжил:
— Слышал ли ты когда-нибудь, что Мухаммад ехал в Мекку[157] по железной дороге?
Ясно, что на последний аргумент возражать было нечего. Ахмет мог сказать, что если бы во времена Мухаммада были железные дороги, то он ими пользовался бы. Но промолчал, в то время как господин Керабан продолжал брюзжать в своем углу, с удовольствием искажая все известные ему слова из железнодорожного жаргона[158].
Хотя карета и не могла соревноваться в скорости с экспрессом, но шла она легко. Упряжка несла ее галопом по довольно хорошей дороге, и жаловаться было не на что. Лошадей на подстанциях было достаточно. Ахмет, с согласия дяди занимавшийся всеми расходами, платил чаевые ямщикам с царской щедростью. Кредитные билеты буквально вылетали из его кармана.
Таким вот образом двигаясь вдоль побережья, карета в тот же день проехала через местечки Шумирка и Александровка[159]. Вечером прибыли в Коблево. Оттуда — всю ночь продвигались в глубь провинции, с целью пересечь Буг у Николаева. Путешественники легко добрались до этого города к полудню 28 августа.
Около трех часов карета простояла перед довольно сносной гостиницей. Путешественники подкрепились неплохим обедом, большая часть которого досталась Бруно. Ахмет воспользовался задержкой и написал банкиру Селиму, что поездка проходит в приемлемых условиях. Не забыл он конечно же при этом и добавить нежные слова для Амазии. Что же до господина Керабана, то все время стоянки было им употреблено для поглощения душистого мока и вдыхания ароматов наргиле. Наконец, ван Миттен и Бруно, считавшие, что это странное путешествие должно хотя бы пополнить копилку их дорожных впечатлений, хотели было немного осмотреться в Николаеве. Замечу, кстати, что процветание этого города возрастает за счет его соперника Херсона до такой степени, что его претензия — в будущем дать свое имя в качестве названия всей губернии[160] — не кажется пустой похвальбой. Но для знакомства с Николаевом лишнего времени у голландцев так и не оказалось.
Ахмет первым дал сигнал к отъезду. Ван Миттен был далек от того, чтобы его удерживать. Господин Керабан выдохнул последние клубы табачного дыма, ямщик сел в седло, и карета покатила по дороге, спускающейся к Херсону.
Путешественникам предстояло проделать семнадцать лье по малоплодородной территории. Кругом виднелись тутовые деревья, тополя, ивы. Ближе к Днепру, текущему на протяжении около четырехсот лье[161] и оканчивающемуся у Херсона, раскинулись обширные равнины, покрытые камышом и васильками. Но «васильки» улетали, взмахнув крыльями, едва грохочущая карета подъезжала к ним поближе. Это были голубые сойки. Их весьма неприятный писк не компенсировался даже чудесным переливом оперения.
Двадцать девятого августа на рассвете господин Керабан и его спутники после ночи, прошедшей без происшествий, прибыли в Херсон, столицу губернии, основанную Потемкиным. Путешественники могли только порадоваться существованию этого детища фаворита Екатерины II. Они нашли там хорошую гостиницу, в которой задержались на несколько часов, и магазины, достаточно обеспеченные провизией, чтобы пополнить запас в карете. Этим занялся Бруно, значительно более расторопный, чем Низиб, и прекрасно справился со своей задачей.
Через несколько часов путешественники сменили лошадей в довольно большом селе Алешки и направились к Перекопскому перешейку, соединяющему Крым с южным побережьем России.
Надо ли говорить, что, находясь в Алешках[162], Ахмет не позабыл послать оттуда очередное письмо в Одессу. Когда спутники уже заняли место в карете и упряжка мчалась во весь опор по дороге на Перекоп, господин Керабан спросил племянника, не забыл ли он послать его и свои наилучшие пожелания банкиру Селиму.
— Безусловно, не забыл, дядя, — ответил Ахмет. — И даже прибавил, что мы делаем все возможное, чтобы добраться до Скутари как можно раньше.
— Ты хорошо сделал, племянник. Нужно давать знать о себе с каждого почтового отделения, где бы оно нам ни встретилось.
— К несчастью, мы никогда не знаем заранее места очередной стоянки, — заметил Ахмет, — поэтому все наши письма останутся без ответа.
— Действительно, — подтвердил ван Миттен.
— Да, кстати, — обратился Керабан к своему роттердамскому другу, — мне кажется, вы не слишком спешите послать весточку госпоже ван Миттен. Что подумает эта превосходная жена о вашей небрежности?
— Госпожа ван Миттен? — переспросил голландец в некотором замешательстве.
— Да!
— Госпожа ван Миттен, безусловно, порядочная женщина. В этом смысле мне не в чем упрекнуть свою жену. Но как подруга жизни… Да, но, друг Керабан, почему мы говорим о госпоже ван Миттен?
— Э… Да потому, что, насколько я помню, это очень милый человек.
— Да? — произнес ван Миттен, как если бы ему сообщили нечто совершенно новое для него.
— Помнишь, Ахмет, как я отзывался о ней в самых лучших выражениях, когда вернулся из Роттердама?
— Помню, дядя.
— И во время моей поездки я был очарован ее приемом.
— Да? — повторил ван Миттен.
— Но, — продолжил Керабан, — должен признать, что иногда у нее бывают странные идеи, капризы, причуды. Но это вообще свойственно слабому полу. Даже если нельзя уступать женщинам, то не стоит и упрекать их. Именно так я всегда и поступал.
— И вы действовали вполне разумно, — поддержал друга ван Миттен.
— Она все так же страстно любит тюльпаны, как, впрочем, и полагается истинной голландке?[163] — спросил Керабан.
— Страстно.
— Ну, ван Миттен, давайте говорить откровенно. Я чувствую в вас какой-то холодок по отношению к жене.
— «Холодок» — было бы еще слишком теплым выражением того, что я к ней испытываю.
— Что вы говорите? — воскликнул Керабан.
— Я никогда не разговаривал с вами серьезно о госпоже ван Миттен. Но коль скоро речь зашла на эту тему и представляется удобный случай, то сделаю одно признание.
— Признание?
— Да, друг Керабан! Мы с госпожой ван Миттен разошлись.
— Разошлись! — воскликнул Керабан. — С обоюдного согласия?
— С обоюдного согласия.
— И навсегда?
— Навсегда.
— Расскажите-ка мне об этом, если, конечно, волнение…
— Волнение? — удивился голландец. — С чего бы мне волноваться?
— Тогда говорите, говорите, ван Миттен! — попросил Керабан. — Как турок я очень люблю всякие истории, а как холостяк особенно обожаю семейные.
— Хорошо, друг Керабан, — продолжал голландец тоном, каким он стал бы рассказывать о приключениях кого-то другого. — Вот уже несколько лет, как отношения между мной и госпожой ван Миттен стали непереносимыми. Бесконечные споры по любому поводу: когда встать, когда ложиться, что есть, что не есть, что пить, что не пить, о том, какой погода будет, и о том, какой была, о мебели, которую лучше поставить не здесь, а там, об огне, который надлежит зажечь в этой, а не в той комнате, об окне, которое нужно открыть, и о двери, которую нужно закрыть, о растениях, которые следует посадить в саду или, наоборот, выдернуть с корнем…
— Все шло чудесно! — вставил Керабан.
— Да, но положение становилось все хуже и хуже, потому что, по сути, у меня очень чувствительный и покорный нрав, и я во всем уступал, стараясь избегать ссор.
— Возможно, это было самым разумным, — вмешался Ахмет.
— Напротив, это было самым неразумным, — возразил Керабан, уже готовый спорить.
— Ничего не могу сказать по этому поводу, — сказал ван Миттен, — но как бы то ни было, а при нашем последнем споре я решил возражать… Да, я возражал как настоящий Керабан!
— Во имя Аллаха! Это невозможно! — воскликнул знавший себя дядя Ахмета.
— Даже больше, чем Керабан, — прибавил ван Миттен.
— Да сохранит меня Мухаммад! — возвысил голос Керабан. — Но претендовать на то, что вы более упрямы, чем я…
— Это совершенно невероятно! — подхватил Ахмет таким убежденным тоном, что он проник в самую глубь сердца его дяди.
— Сейчас сами увидите, — спокойно продолжал ван Миттен, — и…
— Мы ничего не увидим! — закричал Керабан.
— Дослушайте меня, пожалуйста, до конца. Этот спор возник между мной и госпожой ван Миттен по поводу цветов, тех самых прекрасных любительских тюльпанов «Genners», которые держатся так прямо на своих стеблях. Их насчитывается более ста разновидностей. Все тюльпаны этого сорта, которые имелись у меня, стоили не менее чем по тысяче флоринов[164] за луковицу.
— Восемь тысяч пиастров, — вздохнул Керабан, привыкший все пересчитывать на турецкие деньги.
— Да, приблизительно восемь тысяч пиастров, — подтвердил голландец. — И вот однажды госпоже ван Миттен приходит вдруг в голову вырвать «Валенсию», чтобы заменить ее на «Солнечный глаз»! Это переходило всякие пределы! Я воспротивился… Она упорствовала. Не успел я задержать жену, как она бросилась к «Валенсии»… Вырвала ее…
— Восемь тысяч пиастров! — воскликнул Керабан.
— Тогда, — продолжал ван Миттен, — я подбежал в свою очередь к ее «Солнечному глазу» и растоптал его.
— Уже шестнадцать тысяч пиастров! — расстроился Керабан.
— Затем она набросилась на вторую «Валенсию», — сказал ван Миттен.
— Двадцать четыре тысячи пиастров! — произнес Керабан таким тоном, как будто он читал в своей кассовой книге.
— Я ответил ей вторым «Солнечным глазом»…
— Тридцать две тысячи!
— Тут баталия разгорелась вовсю, — продолжал ван Миттен. — Госпожа ван Миттен уже не владела собой. Я получил по голове двумя великолепными и чрезвычайно дорогими луковицами…
— Сорок восемь тысяч пиастров!
— Она получила от меня тремя другими луковицами прямо в грудь.
— Семьдесят две тысячи!
— Это был настоящий дождь из тюльпановых луковиц, какого, наверное, никто еще никогда не видел! Схватка продолжалась полчаса! На это пошел весь сад, а затем и оранжерея! От моей коллекции не осталось ничего!
— И, наконец, сколько же это вам стоило? — спросил Керабан.
— Дороже, чем если бы мы обменивались только оскорблениями, как экономные герои Гомера[165]. Что-то около двадцати пяти тысяч флоринов.
— Двести тысяч пиастров![166] — выкрикнул подавленный Керабан.
— Да, но я показал себя.
— И не продешевили!
— После этого, — продолжал ван Миттен, — я уехал, отдав указания обратить в деньги мою часть имущества и поместить их в Константинопольский банк. Затем я сбежал из Роттердама с моим верным Бруно, решив не возвращаться домой до тех пор, пока госпожа ван Миттен не переселится в лучший мир…
— Или не перестанет нападать на тюльпаны, — поддержал голландца Ахмет.
— Ну, друг Керабан, — снова заговорил ван Миттен, — часто ли вы были столь упрямы, чтобы это стоило вам двести тысяч пиастров?
— Я? — вскинулся Керабан, слегка задетый этим замечанием своего друга.
— Ну, конечно же, — вставил Ахмет, — у моего дяди были подобные случаи, я знаю доподлинно, по крайней мере, об одном.
— И о каком же, будьте любезны? — спросил голландец.
— Ну, вот это самое упрямство, которое заставляет его совершить поездку вокруг Черного моря, чтобы не платить десять пара! Это будет ему стоить дороже, чем ваш ливень тюльпанов.
— Это будет стоить столько, сколько будет стоить! — возразил господин Керабан сухим тоном. — Но я нахожу, что мой друг ван Миттен заплатил за свою свободу не такую уж высокую цену. Вот что значит иметь дело лишь с одной женой. Мухаммад хорошо знал этот очаровательный пол, когда разрешал своим последователям брать столько жен, сколько они смогут!
— Конечно! — подхватил ван Миттен. — Я думаю, что десятью женами легче управлять, чем одной-единственной.
— А что еще легче, — прибавил Керабан назидательным тоном, — так это совсем не иметь жен.
После этого замечания разговор прекратился.
Карета прибыла на почтовую станцию. Лошадей перепрягли и всю ночь ехали дальше. В полдень следующего дня достаточно усталые путешественники, проехав через Великие Копани и Каланчак, добрались до поселка Перекоп в глубине залива с тем же названием, в самом начале перешейка, соединяющего Крым с южной Россией.
Глава тринадцатая,
в которой рассказывается, как путешественники наискось пересекают древнюю Тавриду и с какой упряжкой они из нее выезжают.
Крым! Этот Херсонес таврический древних! Четырехугольник или, вернее, неправильный ромб, который кажется похищенным у самого очаровательного из побережий Италии. Почти остров, из которого Фердинанд Лессепс[167] сделал бы остров всего лишь двумя движениями перочинного ножа. Уголок земли — заветная цель всех народов, жаждущих безраздельной власти над Востоком. Древнее Боспорское царство[168], которым последовательно владели Гераклиды[169] за шестьсот лет до христианской эры, затем Митридат[170], аланы[171], готы[172], гунны[173], венгры, татары[174], генуэзцы[175] и, наконец, богатая, зависимая от империи Мехмеда II провинция, которую уже Екатерина II присоединила к России в 1791 году[176].
Каким же образом эта область, благословенная богами и оспариваемая друг у друга смертными, могла бы не войти в легенды и мифы? Разве не пытались найти в болотах Сиваша[177] следов титанической деятельности проблематичного народа атлантов[178]? Разве античные поэты не помещали вход в ад возле Керберова мыса, три дамбы которого как бы представляли собой Кербера[179] с тремя головами? Разве Ифигения[180], дочь Агамемнона и Клитемнестры, став жрицей Дианы в Тавриде, не была уже готова принести в жертву целомудренной богине своего брата Ореста, заброшенного ветрами на берег мыса Партениум?
И теперь одна только южная часть Крыма стоит больше, чем все засушливые острова архипелага. Плато Чатырдага[181] на высоте полутора тысяч метров могло бы вместить застолье всех олимпийских богов[182]. А лесные амфитеатры, чей зеленый покров простирается до самого моря? Все эти заросли диких каштанов, кипарисов, иудина дерева, олив, миндаля, ракитника, поистине необозримы. Как поистине восхитительны каскады, воспетые Пушкиным. Этот край — прекраснейшая жемчужина провинций, простирающихся от Черного моря до Арктики. Здесь, в живительном и умеренном климате, русские как с севера, так и с юга находят: одни — убежище от суровости северной зимы, другие — укрытие от иссушающих летних ветров. Именно там, вокруг мыса Айя[183], этого бараньего лба, противостоящего волнам Понта Эвксинского на самом острие Тавриды, основаны колонии замков, вилл, коттеджей. Великолепны Ялта, Алупка, которые принадлежат князю Воронцову; равно, как неотразимо феодальное владение снаружи, греза восточного воображения внутри — Кызыл-Таш[184] графа Понятовского; Артек князя Андрея Голицына; Массандра, Ореанда, Ериклик — императорская собственность… Наконец. Ливадия — восхитительный дворец со своими родниками, причудливыми потоками, зимними садами — любимое прибежище самой императрицы. Сколь угодно любознательный, сентиментальный, художественный, возвышенный ум нашел бы удовлетворение в этом уголке земли — истинном микрокосме[185] в котором встречаются Европа и Азия. Там мирно существуют татарские деревни и греческие поселки. В восточных городах с мечетями и минаретами, муэдзинами и дервишами соседствуют православные монастыри. Здесь же — ханские дворцы, фиваниды[186], известные рядом романтических приключений. Сюда, к святым местам, устремляются паломники — к еврейской горе, принадлежащей племени караимов[187], и Иосафатской долине[188], прорытой как бы в качестве филиала знаменитой Кедронской[189]. Той самой, где сонмища подсудимых должны, при звуке трубы, предстать на Страшный суд[190].
Сколько чудес мог бы увидеть ван Миттен! Сколько впечатлений осталось бы у него от этой страны, в которую его увлекала странная судьба! Но его друг Керабан путешествовал не для того, чтобы услаждать зрение, а Ахмет уже знал все великолепие Крыма и не предоставил бы голландцу и часа даже для беглого осмотра.
«И все же, может быть, несмотря ни на что, — говорил себе ван Миттен, — мне удастся мимоходом составить хотя бы самое общее представление об этом, столь древнем, справедливо прославленном, Херсонесе?»
Но его мечтам не суждено было сбыться. Карете следовало двигаться по самой короткой дороге, косо с севера на юго-запад, минуя как центр южного побережья, так и древнюю Тавриду. Таков был маршрут, намеченный на совещании, в котором голландец не имел даже совещательного голоса. Правда, проезд через Крым избавлял от необходимости ехать вокруг Азовского моря, протянувшегося на сто пятьдесят лье[191]. Кроме того, некоторый выигрыш в расстоянии давало и то, что маршрут пролегал прямо с Перекопа[192] к Керченскому полуострову[193]. Затем с другой стороны пролива Еникале[194] Таманский полуостров[195] открывал прямой путь к кавказскому побережью.
Так что карета катилась по узкому перешейку, с которого Крым свисает, как великолепный апельсин с ветки дерева. С одной стороны был Перекопский залив, с другой — болото Сиваш, более известное под названием Гнилого моря — нечто вроде огромного пруда в два миллиарда квадратных метров, питаемого водами Тавриды и Азовского моря; последние попадают в Сиваш через Генический пролив.
Проезжая, путешественники рассматривали Сиваш, глубина которого не превышает метра. Соленость воды здесь в некоторых местах почти достигает степени насыщения. Ну, а поскольку при таких условиях соль начинает осаждаться в виде кристаллов, то из этого Гнилого моря вполне можно было бы сделать одну из самых производительных солеварен на планете.
Однако тут же нужно сказать, что если взглянуть на Сиваш и стоит, то обоняние при этом несомненно страдает. Сероводород — этим все сказано! Рыбы, попадая в Сиваш, почти сразу же погибают. Так что это нечто вроде аналога палестинского Асфальтового озера[196].
Вот посреди таких болот и проложено полотно железной дороги, идущей из Александровска в Севастополь. Поэтому, к своему ужасу, господин Керабан мог слышать в ночи оглушительные свистки локомотивов, пробегающих по рельсам, на которые иногда накатываются тяжелые воды Гнилого моря.
Впрочем, картины ада вскоре сменились почти райскими видениями.
В течение следующего дня, 31 августа, дорога пролегала посреди зеленеющей сельской местности. Это были заросли олив, листья которых, вращаясь на ветру, казались трепещущими, как ртуть; темно-зеленые, почти черные кипарисы, великолепные дубы, высокие земляничные деревья. Повсюду на холмах располагались ярусами линии виноградных лоз, вино из которых почти не уступает продукции французских виноградников.
Тем временем благодаря настойчивости Ахмета и пригоршням рублей, которые он расточал, лошади всегда были готовы, а ямщики ехали по кратчайшей дороге. Вечером миновали поселок Дорте и через несколько лье оказались на берегу Гнилого моря.
Здесь примечательная лагуна[197] отделяется от Азовского моря только невысокой песчаной полосой в четверть лье шириной.
Полоса именуется Арабатской стрелкой. Она протянулась от одноименного села на юге и до северного Геническа. Материк прорезан в этом месте проливов в три сотни футов шириной, через который, как уже говорилось, поступает вода из Азовского моря.
С приходом дня господин Керабан и его спутники смогли разглядеть вокруг себя плотные и нездоровые испарения, которые затем постепенно рассеялись под действием солнечных лучей.
Местность здесь была менее лесистой и более пустынной. Кое-где свободно паслись высокие дромадеры[198], что превращало эту область в некий придаток Аравийской пустыни. Проезжавшие по ней тележки, сделанные только из дерева без единого куска металла, производили оглушающий шум, скрипя на своих осях, натертых смолой. Все это выглядело очень примитивно. Зато в деревенских домах и одиночных фермах еще встречалось чистосердечное и самое широкое татарское гостеприимство. Каждый может войти туда, сесть за хозяйский стол, наесться и напиться вволю и уйти с простым «спасибо» в качестве вознаграждения.
Само собой, наши путешественники никогда не злоупотребляли простотой старинных обычаев, которые несомненно недолго продержатся. Ахмет был верен своему первоначальному намерению не жалеть дядиного кошелька, поэтому благодарность путников неизменно оказывалась достаточно щедрой. Вечером упряжка, измученная долгим пробегом, остановилась в поселке Арабат, на крайнем юге стрелки.
Там на песке возвышается укрепление, у подножия которого построены дома, без какого-либо порядка. Везде — заросли укропа, являющиеся истинным прибежищем для ужей, и поля арбузов, урожай которых чрезвычайно обилен.
Было девять часов вечера, когда карета остановилась перед гостиницей достаточно жалкого вида. Но нужно признать, что она была лучшей в этом месте, а в затерянных глухих районах Херсонеса не следовало проявлять излишнюю привередливость.
— Племянник Ахмет, — сказал господин Керабан, — вот уже несколько ночей и дней мы несемся, останавливаясь только на почтовых станциях. Так что я не прочь полежать несколько часов на кровати, пусть это будет даже гостиничная койка.
— А я просто был бы счастлив, — прибавил ван Миттен, приподнимаясь на сиденье.
— Что? Потерягь двенадцать часов! — воскликнул Ахмет. — Двенадцать часов из шестинедельного путешествия!
— Ты хочешь, чтобы мы начали спор по этому поводу? — спросил Керабан тем несколько агрессивным тоном, который был для него так характерен.
— Нет, дядя, нет! — ответил Ахмет. — Раз вам требуется отдых…
— Да, требуется. Ван Миттену — тоже. И Бруно, я полагаю. И даже Низибу, который не пожелал бы ничего лучшего.
— Господин Керабан, — подтвердил Бруно, — я рассматриваю эту идею как одну из самых удачных, какие у вас когда-либо были. Особенно если хороший ужин подготовит нас к крепкому сну.
Замечание Бруно пришлось очень кстати. Запасы провизии были почти полностью исчерпаны. А то, что оставалось в сундуках, трогать было нельзя до прибытия в Керчь, известный город на полуострове с тем же названием, где запасы можно обильно пополнить.
К сожалению, если кровати гостиницы Арабата еще были сносными даже для таких важных путешественников, то кладовые оставляли желать лучшего. Туристы, рискующие отправиться к крайним пределам Тавриды, в любое время года немногочисленны. Несколько купцов и торговцев солью, чьи лошади и тележки освоили дорогу Керчь — Перекоп, — таковы основные клиенты гостиницы в Арабате. Непривередливые люди, умеющие спать на жестких постелях и есть что придется.
Таким образом, Керабан и его спутники должны были довольствоваться достаточно бедным меню, то есть пловом — традиционным национальным блюдом, в котором было больше риса, чем курятины, и больше костей, чем мяса. Кроме того, птица была такой старой и, естественно, жесткой, что оказала сопротивление даже самому Керабану. Но прочные коренные зубы упрямого героя победили в конце концов ее неподатливость, так что и в этом случае он отступил не больше, чем обычно.
За пловом последовала миска йогурта, или квашеного молока, которая была очень кстати после борьбы с куриными костями. Затем появились достаточно аппетитные лепешки, известные здесь под названием катламас.
Бруно и Низиб получили приблизительно такие же кушанья, как и хозяева, за исключением того, что на их столе плов был заменен некой черноватой субстанцией[199] дымящейся, как чугунная плита камина.
— Что это такое? — спросил Бруно.
— Не могу сказать, — пожал плечами Низиб.
— Но вы же местный житель.
— Я не местный житель.
— Ну, почти, поскольку вы — турок, — заметил Бруно. — Итак, дружище, попробуйте-ка эту высушенную подошву и скажите мне, что о ней можно подумать.
Всегда послушный Низиб впился зубами в кусок упомянутой «подошвы».
— Ну? — спросил Бруно.
— Это совсем невкусно, но все же можно есть.
— Да, Низиб, когда умирают от голода и больше нечего положить в рот.
И Бруно решительно попробовал кушанье в свою очередь, пойдя на риск из страха похудеть.
В общем блюдо было съедобным, особенно при нескольких стаканах пива, что и доказали оба сотрапезника.
Но неожиданно Низиб воскликнул:
— Да поможет мне Аллах!
— Что с вами, Низиб?
— А если то, что я съел, было из свинины?
— Не исключено! — подтвердил Бруно. — Бедняга Низиб! Хороший мусульманин, как вы, не должен питаться мясом этого нечистого животного. Но мне думается, что если это неизвестное блюдо — из свинины, то вам остается только одно.
— Что же именно?
— Спокойно переварить его, коль скоро оно уже съедено.
Это, однако, не успокоило Низиба, скрупулезно соблюдавшего законы Пророка[200], и поскольку он был сильно встревожен, то Бруно отправился за разъяснениями к хозяину гостиницы.
После этого Низиб успокоился и смог без упреков совести предаться перевариванию съеденного. Кушанье оказалось даже не мясом, а рыбой чебак[201], которую разрубают надвое вдоль как треску, сушат на солнце, коптят, подвешивая над очагом, а также едят сырой или почти сырой. Она является важным экспортным товаром на всем побережье вплоть до Ростова, находящегося на крайнем северо-востоке Азовского моря.
Итак, слуги и хозяева вынуждены было довольствоваться этим скудным ужином в гостинице Арабата. Постели показались им еще более жесткими, чем подушки кареты. Однако здесь они не тряслись по ухабам, и сон в этих не очень комфортабельных комнатах все же избавлял от накопившейся усталости.
На следующий день, 2 сентября, с восходом солнца Ахмет был уже на ногах и отправился на поиски почты, чтобы взять там сменных лошадей. Предыдущая упряжка, измученная долгим и тяжелым перегоном, не смогла бы отправиться в путь без, по крайней мере, двадцатичетырехчасового отдыха.
Ахмет рассчитывал привести к гостинице уже запряженную карету, чтобы его дяде и ван Миттену оставалось бы только подняться в нее и следовать по дороге на Керченский полуостров. Почта находилась на краю поселка, но там не было и следа свежих лошадей. Конюшня оказалась пустой, и начальник не смог бы этого изменить даже за золото.
Чрезвычайно разочарованный этим препятствием, Ахмет вернулся в гостиницу. Господин Керабан, ван Миттен, Бруно и Низиб, уже готовые к отбытию, ожидали карету. А один из них — излишне говорить который — даже начинал уже подавать видимые признаки нетерпения.
— Ну, Ахмет, — воскликнул он, — ты возвращаешься без ничего? Нам что же, самим идти за каретой на почту?
— К сожалению, это бесполезно, дядя, — ответил Ахмет. — Там нет ни одной лошади.
— Ни одной? — удивился Керабан. — И они будут только завтра.
— Вот как?
— Да! Это потеря двадцати четырех часов!
— Ну нет, ни за что! — воскликнул Керабан. — Я не хочу терять ни десяти, ни пяти, ни даже одного часа!
— Но, — заметил голландец своему другу, который уже начинал «заводиться», — если лошадей нет?
— Будут! — ответил господин Керабан.
И по его знаку все последовали за ним. Через четверть часа путешественники добрались до станции и остановились перед дверью. Начальник стоял на пороге с равнодушным видом человека, который отлично знает, что нельзя заставить его дать то, чего нет.
— У вас нет лошадей? — спросил Керабан уже достаточно вызывающим тоном.
— У меня только те, которые доставили вас вчера вечером, — ответил начальник почты, — и они совсем обессилены.
— А почему, будьте любезны объяснить, у вас нет свежих лошадей на конюшнях?
— Потому что их взял один турецкий господин, который едет в Керчь, а оттуда — в Поти[202] через Кавказ.
— Один турецкий господин! — воскликнул Керабан. — И конечно же, один из этих европеизированных османов. Мало того, что они путаются под ногами на улицах Константинополя, так нужно еще, чтобы они встречались на дорогах Крыма! И кто он?
— Мне известно, что его имя господин Саффар, вот и все, — спокойно доложил начальник почты.
— Ну и почему вы позволили себе отдать остававшихся у вас лошадей этому господину Саффару? — спросил Керабан с сильнейшим презрением.
— Потому что этот путешественник прибыл на станцию вчера утром, за двенадцать часов до вас, и, поскольку стояли свободные лошади, у меня не было никаких причин отказать ему.
— Напротив, они были!
— Были? — удивился начальник.
— Без сомнения, поскольку сюда ехал я!
Что можно ответить на подобные аргументы? Ван Миттен хотел вмешаться, но получил от своего друга резкую отповедь. Что до начальника, то, насмешливо посмотрев на господина Керабана, он вознамерился вернуться в дом, когда негоциант остановил его, говоря:
— В конце концов, все это не важно. Есть у вас лошади или нет, но нужно, чтобы мы отправились сейчас же!
— Сейчас же? — переспросил начальник станции. — Повторяю вам, у меня нет лошадей.
— Найдите!
— Их нет в Арабате.
— Найдите две, найдите одну, — напирал Керабан, начинавший уже терять самообладание, — найдите пол-лошади… Но найдите!
— Но если их нет? — посчитал нужным сказать мягким голосом ван Миттен.
— Надо, чтобы они были!
— Может, вы найдете нам упряжку из мулов? — спросил Ахмет у хозяина станции.
— Хорошо! Пусть будут мулы! — прибавил господин Керабан. — Мы будем довольны и ими.
— Я никогда не видел в провинции мулов, — ответил начальник почты.
— Ну, одного-то он сегодня видел, — шепнул Бруно на ухо хозяину, явно имея в виду Керабана, — и знаменитого!
— Тогда ослы? — спросил Ахмет.
— Их нет, как и мулов.
— Нет ослов! — вскричал господин Керабан. — Ах, так! Вы насмехаетесь надо мной, господин начальник почты. Как не может быть ослов! Не из чего собрать хоть какую-нибудь упряжку? Так-таки и некого перезапрячь в карету?
Выкрикивая это, наш упрямый герой бросал гневные взгляды направо и налево, на дюжину местных жителей, которые собрались у почты.
— Он способен запрячь в свою карету даже их, — сказал Бруно.
— Да! И их и нас, — согласился Низиб, как человек, хорошо знающий своего хозяина.
Между тем, поскольку не было ни лошадей, ни мулов, ни ослов, становилось ясно, что выехать не удастся. Отсюда — необходимость смириться с двадцатичетырехчасовой задержкой. Ахмет, которому это было так же неприятно, как и его дяде, тем не менее уже собрался убедить его смириться с абсолютной невозможностью, когда господин Керабан воскликнул:
— Сто рублей тому, кто доставит мне упряжку!
Некоторый трепет пробежал среди собравшихся жителей Арабата. Один из них решительно выступил вперед.
— Господин турок, — сказал он, — у меня есть два дромадера на продажу.
— Я покупаю их! — ответил Керабан.
Дромадеров, запряженных в почтовую карету, еще никто никогда не видел. Увидели на этот раз.
Меньше чем за час сделка была завершена. Дромадеры обошлись в кругленькую сумму. Но это было не важно: господин Керабан заплатил бы и гораздо больше. Итак, на двоих животных надели сбрую, впрягли их в оглобли, и благодаря обещанной доплате их бывший владелец превратился в ямщика и устроился перед горбом одного из этих жвачных. Затем, к великому изумлению жителей Арабата и к крайнему удовлетворению путешественников, карета спустилась на дорогу в Керчь и поехала при ускоренной рыси странной упряжки.
К вечеру без каких-либо помех прибыли в поселок Аржин, в двенадцати лье от Арабата.
Сменных лошадей опять не было, и все из-за того же господина Саффара. Пришлось пойти на ночевку в Аржине, чтобы дать дромадерам отдых.
На следующее утро, 3 сентября, карета снова отправилась в путь. В течение дня было пройдено расстояние между Аргином[203] и поселком Мариенталь, то есть около семнадцати лье. Проведя ночь в Мариентале и покинув его на заре, путешественники проехали двенадцать лье и вечером прибыли в Керчь без каких-либо аварий, но не без хорошей тряски из-за разболтанности хомутов на мощных животных, плохо подготовленных к такой езде.
В общем, господин Керабан и его спутники, отправившись 17 августа, за девятнадцать дней прошли три седьмых всего пути — приблизительно триста лье. Таким образом, они достигли почти середины маршрута и за остававшиеся до 30 сентября двадцать шесть дней должны были завершить поездку вокруг Черного моря.
— И все-таки, — часто повторял Бруно своему хозяину, — у меня предчувствие, что это кончится плохо.
— Для моего друга Керабана?
— Для вашего друга Керабана… или для тех, кто его сопровождает.
Глава четырнадцатая,
в которой господин Керабан показывает, что он более силен в географии, чем предполагал его племянник Ахмет.
Город Керчь расположен на полуострове с тем же названием, на восточной оконечности Тавриды. Над ним величественно возвышается гора, на которой некогда находился акрополь. Это гора Митридата. Имя страшного и неумолимого врага римлян, чуть было не прогнавшего их из Азии, отважного полководца, выдающегося полиглота[204] и легендарного знатока ядов, вполне справедливо связано с городом, бывшим когда-то столицей Боспорского царства. Именно здесь боспорский царь, грозный Евпатор, велел галльскому[205] воину пронзить себя мечом после нескольких неудачных попыток отравить свое железное тело, которое он сам же и приучал к ядам.
Таков был краткий исторический экскурс, который ван Миттен счел нужным сделать для своих спутников во время получасовой стоянки. И услышал следующее:
— Митридат действовал неумело.
— Почему? — спросил ван Миттен.
— Если он серьезно желал отравиться, то ему нужно было лишь пообедать в Арабатской гостинице.
После этого голландец счел правильным не расхваливать больше супруга прекрасной Монимы, но пообещал самому себе обязательно посетить его столицу за те несколько часов, которые оставались.
Карета со своим странным экипажем пересекла город, к великому удивлению его смешанного населения, состоящего из большого числа евреев, а также из татар, греков и немногих русских — всего около двенадцати тысяч человек.
По прибытии в гостиницу «Константин» первой заботой Ахмета было узнать, можно ли достать лошадей на завтрашнее утро. К его крайнему удовлетворению, на этот раз в конюшнях почтовой станции лошадей хватало.
— Счастье, — заметил Керабан, — что господин Саффар не забрал все на этой станции.
Нетерпеливый дядя Ахмета не склонен был проявить снисходительность к несносному субъекту, позволявшему себе опережать на дорогах его, господина Керабана, и отнимать у него лошадей.
Поскольку больше необходимости в дромадерах не было, их перепродали предводителю каравана, отправлявшегося к проливу Еникале. Однако уже по цене, скорее подходившей не живым, а мертвым животным. Эту достаточно ощутимую потерю мстительный Керабан мысленно также поставил в счет господину Саффару.
Само собой разумеется, что упомянутого Саффара в Керчи не было, что, без сомнения, спасло его от серьезнейшего спора с конкурентом. Уже два дня назад он покинул город и выехал по дороге на Кавказ. Счастливое обстоятельство, благодаря которому он не должен был теперь опережать наших путешественников, решивших следовать по побережью.
Хороший ужин в гостинице «Константин» и ночь, проведенная в достаточно комфортабельных комнатах, заставили и хозяев и слуг забыть о прошлых неприятностях. Поэтому в письме, отправленном Ахметом в Одессу, говорилось, что поездка проходит нормально.
Поскольку отъезд на следующий день, 5 сентября, намечался только на десять часов утра, то добросовестный ван Миттен поднялся с первым лучом солнца, чтобы успеть осмотреть город. На этот раз Ахмет был готов сопровождать его.
Они пошли вдоль тротуаров, по широким мощеным улицам Керчи. Первое, что них поразило, — великое множество бродячих собак. Избавляться от них ударами палки входило в обязанность некоего цыгана — признанного мастера этого ночного низменного ремесла. Но палач, без сомнения, пьянствовал предыдущей ночью, и теперь Ахмет и голландец с большим трудом избегали больших клыков опасных животных.
Каменная набережная, построенная в глубине бухты и протянувшаяся до берегов пролива, значительно облегчила их прогулку. Путешественники миновали дворец губернатора и таможню. Полюбовались, как немного дальше в открытом море — из-за недостатка глубины — становятся на якорь суда. Керченский порт представляет для них хорошую якорную стоянку поблизости от карантинного пункта. Этот порт стал играть значительную роль в торговле после передачи города России в 1774 году. Знали наши путники и то, что в нем находится просторный пакгауз[206] для соли, поставляемой перекопскими солеварами.
— У нас есть время подняться туда? — спросил ван Миттен, указывая на гору Митридата, на которой ныне возвышается греческий храм, украшенный трофеями из курганов, столь многочисленных в керченской провинции, — храм, заменивший древний акрополь[207].
— Гм! — сказал Ахмет. — Не стоит рисковать, заставляя ждать дядю Керабана.
— А также и его племянника, — улыбнулся ван Миттен.
— Верно, — сказал Ахмет, — во время путешествия я думаю только о нашем возвращении в Скутари. Вы понимаете меня, господин ван Миттен?
— Да, понимаю, мой юный друг, — ответил голландец, — хотя муж госпожи ван Миттен имеет полное право и не понять.
После этого рассуждения, слишком хорошо оправданного роттердамскими домашними делами, оба спутника начали все-таки взбираться на гору Митридата, имея в запасе два часа до отъезда. С этого возвышенного места открылся великолепный вид на бухту Керчи. На юге виднелись очертания оконечности полуострова. К востоку закруглились две полосы земли, окружающие Таманский залив по ту сторону пролива Еникале. Достаточно чистое небо позволяло разглядеть различные неровности местности и ее курганы, или древние могилы, которыми она буквально усеяна.
Когда Ахмет счел момент подходящим для возвращения в гостиницу, он показал ван Миттену на монументальную лестницу, украшенную перилами со стойками. Эта лестница спускается с горы Митридата к городу и оканчивается на рыночной площади. Через четверть часа оба присоединились к господину Керабану, который как раз спорил с хозяином, чрезвычайно невозмутимым татарином. Кончилось тем, что Керабан стал раздражаться, не находя повода, чтобы разгневаться.
В карету были запряжены хорошие лошади персидского происхождения — важный предмет торговли в Керчи. Каждый занял свое место, и упряжка помчалась галопом, не заставлявшим жалеть об утомительной рыси дромадеров.
Приближаясь к проливу, Ахмет стал ощущать некоторое беспокойство. Дело в том, что, как уже говорилось, в Херсоне маршрут был изменен и, по настоянию племянника, господин Керабан согласился не ехать вокруг Азовского моря, а выбрать кратчайший путь по Крыму. Но, дав свое согласие, он, наверное, думал, что дорога все время будет идти только по материку. Он ошибался, и Ахмет ничего не сделал, чтобы развеять его заблуждение.
Можно быть очень хорошим турком, прекрасным торговцем табаком и не иметь достаточных познаний в географии. Дядя Ахмета, вероятно, не знал, что протока из Азовского моря в Черное представляет собой широкий пролив — тот древний Боспор Киммерийский, который ныне носит название пролива Еникале, и что со всей неизбежностью ему предстояло пересечь этот пролив между Керченским и Таманским полуостровами.
Ну, а господин Керабан испытывал к морю отвращение, о котором его племянник давно знал. Что он скажет, когда окажется перед этой переправой, если из-за течения или небольшой глубины придется переправляться через пролив в его самом широком месте, которое может достигать двадцати миль?[208] А если он упрямо откажется рискнуть? Или прикажет снова пройти по всему восточному берегу Крыма, чтобы следовать по побережью Азовского моря до первых отрогов Кавказа? Сколько потерянного времени! Как тогда оказаться в Скутари к 30 сентября?
Вот каковы были размышления Ахмета в то время, как карета катилась по полуострову. Через два часа она достигнет пролива, и дядя поймет, в чем дело. Стоило ли уже сейчас подготовить его к этому тяжкому испытанию? Но тогда сколько же ловкости нужно проявить, чтобы разговор не перешел в спор, а спор — в ссору! Если господин Керабан будет упрямиться, то ничто не заставит его переменить мнение, и поневоле придется повернуть карету на дорогу в Керчь.
Таким образом, Ахмет никак не мог принять решения. Если он признается в своей хитрости, то рискует вывести дядю из себя. Не лучше ли, даже рискуя прослыть невеждой, разыграть абсолютное удивление, натолкнувшись на пролив там, где предполагался материк?
— Да поможет мне Аллах! — говорил Ахмет.
И он стал смиренно ждать, что бог мусульман пожелает вывести его из затруднения.
Керченский полуостров разделяет длинный ров, вырытый в античные времена. Его именуют валом Акос. Дорога, которая частично следует вдоль него, достаточно хороша между городом и карантинным пунктом. Но затем она становится тяжелой и скользкой, спускаясь со склонов к побережью.
Так что утром карета не смогла продвигаться слишком быстро, и это позволило ван Миттену получить более полное представление об этой части Херсонеса.
В общем, это была русская степь в своей предельной обнаженности. Несколько караванов, пересекая ее, нашли убежище вдоль вала Акос, расположившись лагерем с восточной живописностью. Бесчисленные курганы покрывали землю и придавали ей маловеселящий вид огромного кладбища. Это были могилы, которые кладоискатели перекопали на всю глубину. Добытые там богатства: этрусские вазы, камни кенотафов[209], древние драгоценности — украшают теперь стены храма и залы музея в Керчи.
К полудню на горизонте показалась большая квадратная башня с четырьмя башенками по бокам. Это была крепость, возвышающаяся на севере города Еникале. На юге, замыкая Керченскую бухту, вырисовывался мыс О-Бурум, господствующий над Черноморским побережьем. Затем пролив открывался двумя оконечностями, образующими лиман или бухту Тамань. Вдали, на азиатском берегу, первые очертания Кавказа составляли как бы гигантскую рамку Босфора Киммерийского[210].
Этот пролив конечно же был морским, и ван Миттен, знавший об антипатии своего друга Керабана, посмотрел на Ахмета с большим удивлением.
Тот сделал ему знак, призывающий к молчанию. По счастью, в этот момент дядя дремал и не видел вод Черного и Азовского морей, смешивающихся в этом проливе, самая узкая часть которого достигает пяти или шести миль в ширину[211].
— Черт! — сказал себе ван Миттен.
Безусловно, очень досадно, что господин Керабан не родился на несколько сот лет позже! Если бы путешествие проходило в это время, то у Ахмета не было бы оснований беспокоиться, как в тот момент. Дело в том, что пролив имеет тенденцию засыпаться песком и в дальнейшем станет только узким протоком с быстрым течением. Если сто пятьдесят лет назад суда Петра великого смогли преодолеть его, направляясь к Азову, то теперь коммерческие корабли вынуждены ожидать, пока воды, подгоняемые южными ветрами, не создадут им необходимую глубину в десять — двенадцать футов.
Но события происходили в 1882 году, а не в году 2000-м, и нужно было принимать гидрографические условия такими, какими они были.
Тем временем карета спустилась со склонов, доходящих до Еникале. При этом она вспугивала оглушительно кричащих дроф[212], прятавшихся в высокой траве. Наконец карета остановилась у главной гостиницы поселка, и господин Керабан проснулся.
— Мы на станции? — спросил он.
— Да, на станции Еникале, — ответил Ахмет.
Все вышли из кареты и вошли в гостиницу. Тем временем экипаж отправился на почту. Оттуда карета должна была прибыть на причал. Там находится паром для перевозки как пеших пассажиров, так и приехавших на лошадях и в телегах. А также — для переправки караванов, приходящих из Европы в Азию и из Азии в Европу.
Еникале представляет собой поселок, где ведется прибыльная торговля солью, икрой, салом и шерстью. Греческое население занято также ловлей осетров и тюрбо[213]. Моряки осуществляют мелкое каботажное судоходство в проливе и у соседнего побережья на легких суденышках, оснащенных двумя косыми парусами. Еникале имеет важное стратегическое положение, почему русские и укрепили его, отняв у турок в 1771 году[214]. Это один из портов Черного моря, которое имеет таким образом два ключа к безопасности: с одной стороны Еникале, с другой — Тамань.
После получасовой остановки господин Керабан дал своим спутникам сигнал к отъезду, и они направились к набережной, где их ждал паром.
Едва взглянув направо и налево, Керабан издал восклицание.
— Что с вами, дядя? — спросил Ахмет, не слишком спокойно себя чувствующий.
— Это что, река? — указал на пролив Керабан.
— Река, действительно! — ответил Ахмет, решивший оставить своего дядю в заблуждении.
— Река! — повторил Бруно.
Знак хозяина дал ему понять, что он не должен заострять внимания на этом вопросе.
— Но нет! Это… — начал было Низиб.
Он не смог закончить. Сильный толчок локтя Бруно оборвал его речь как раз, когда он собирался квалифицировать гидрографическую ситуацию.
Однако господин Керабан все продолжал разглядывать эту реку, преграждавшую ему дорогу.
— Она широкая, — заключил торговец.
— Действительно… довольно широкая… наверное, из-за какого-нибудь паводка, — лепетал Ахмет.
— Паводка… вызванного таянием снега, — прибавил ван Миттен, чтобы поддержать своего молодого друга.
— Таяние снега… в сентябре? — протянул Керабан, оборачиваясь к голландцу.
— Несомненно… таяние снега… старого снега… снега Кавказа, — ответил ван Миттен, который уже не слишком хорошо понимал, что говорит.
— Но я не вижу моста, по которому можно перебраться через эту реку, — продолжал Керабан.
— Действительно, дядя, его больше нет, — ответил Ахмет, приложив согнутую руку к глазам и всматриваясь в невидимый мост предполагаемой реки.
— Однако должен быть мост, — сказал ван Миттен. — Мой путеводитель упоминает о его существовании.
— А! Ваш путеводитель упоминает о существовании моста? — спросил Керабан, хмуря брови и смотря прямо в лицо своему другу ван Миттену.
— Да… этот знаменитый мост… — пробормотал голландец. — Вы хорошо знаете… Понт Эвксинский, Pontus Euxenos древних…[215]
— Такой древний, — сказал Керабан, у которого слова со свистом прорывались сквозь полу сжатые губы, — что он не мог устоять перед паводком, вызванным таянием снега… древнего снега.
— Кавказа! — смог добавить ван Миттен, но его фантазия уже исчерпалась.
Ахмет держался немного в стороне. Он уже не знал, как отвечать дяде, чтобы не вызвать спора, который, очевидно, кончился бы плохо.
— Ну, племянник, — сказал Керабан сухим юном, как мы переберемся через эту реку, раз нет или, вернее, больше нет моста?
— О! Мы конечно же найдем брод! — небрежно сказал Ахмет. — Воды так мало!..
— Едва можно намочить каблуки, — прибавил голландец, которому лучше было бы промолчать.
— Отлично, ван Миттен, — воскликнул Керабан, — засучите ваши брюки, входите в реку, а мы последуем за вами.
— Но… я…
— Давайте! Засучивайте! Засучивайте!
Верный Бруно счел нужным выручить хозяина.
— Это излишне, господин Керабан, — сказал он. — Мы переправимся, не намочив ног. Есть паром.
— А! Есть паром? — ухмыльнулся Керабан. — Это очень удачно, что позаботились поместить его на этой реке… вместо унесенного моста… этого знаменитого Понта Эвксинского! Почему же было сразу не сказать о нем? И где он, этот паром?
— Вот он, дядя, — ответил Ахмет, указывая в сторону набережной. — Наша карета уже на нем.
— В самом деле?
— Да! И полностью запряженная.
— Полностью запряженная? А кто приказал?
— Никто, дядя! — ответил Ахмет. — Начальник почты отвел ее туда сам, как он все делает…
— С тех пор, как больше нет моста, не так ли?
— Впрочем, дядя, другого способа продолжить нашу поездку и не было.
— Был и другой способ, племянник Ахмет! Можно было вернуться и проехать вокруг Азовского моря с севера.
— Двести лишних лье, дядя! А моя женитьба? А тридцатое число? Вы забыли тридцатое число?
— Вовсе нет, племянник, и я намерен вернуться как раз до этой даты. Поехали!
Какое-то время Ахмет сильно волновался. Не приведет ли дядя в исполнение свой безумный план вернуться через полуостров? Или, наоборот, он согласится занять место на пароме и пересечь пролив Еникале?
Господин Керабан направился к парому. Ван Миттен, Ахмет, Низиб и Бруно последовали за ним, не желая давать никакого повода для грозившей начаться бурной дискуссии.
Керабан в течение минуты, показавшейся очень долгой, стоял на набережной и смотрел вокруг себя.
Его спутники остановились.
Керабан взошел на паром.
Спутники последовали за ним.
Керабан поднялся в карету.
Остальные также.
Затем паром отчалил, и вскоре течение понесло его к противоположному берегу.
Керабан молчал, молчали и остальные.
К счастью, воды были очень спокойны, и перевозчики без затруднений направляли свой паром, действуя то длинными баграми, то широкими веслами, в зависимости от глубины.
Был, однако, момент, когда можно было опасаться, что произойдет авария. Дело в том, что легкое течение, отклоненное южной косой Таманской бухты, захватило паром. Вместо того чтобы пристать к этой оконечности, его понесло в глубину бухты. Это значило, что возникла опасность вместо одного лье преодолевать пять, а господин Керабан, нетерпение которого проявлялось заметным образом, может отдать приказание повернуть назад. Однако паромщики, которым Ахмет перед посадкой пообещал щедрое вознаграждение, маневрировали так ловко, что сумели справиться с течением.
Поэтому через час после отплытия из бухты Еникале путешественники, лошади и карета причалили к оконечности косы, которая по-русски называется Южной[216].
Карета без труда была выгружена на берег, и моряки получили изрядный капиталец.
В прошлом коса образовывала два острова и один полуостров, то есть она разрезалась потоком в двух местах, и ее невозможно было пересечь в карете. Но в настоящее время прорези эти занесены. Поэтому упряжка смогла в один прием пройти четыре версты, отделяющие оконечность от городка Тамань. Через час она уже въезжала в него, и господин Керабан ограничился тем, что сказал племяннику:
— Воды Азовского и Черного морей недурно уживаются в проливе Еникале.
Вот все, что он сказал. И никогда больше не поднимался вопрос ни о реке племянника Ахмета, ни о Понте Эвксинском друга ван Миттена.
Глава пятнадцатая,
в которой господин Керабан, Ахмет, ван Миттен и их слуги играют роль саламандр.
Тамань — это довольно жалкий городишко. Неуютные дома, с выцветшими от времени соломенными крышами. Деревянная церковь, колокольня, постоянно закрытая непроглядной стаей ворон.
Карета пересекла Тамань не останавливаясь. Так что ван Миттен не смог посетить ни важный военный пост, ни крепость Фанагорию, ни развалины Тмутаракани[217].
Если Керчь — греческая по своему населению и обычаям, то Тамань — казацкая.
Отсюда и контраст, который голландец смог заметить лишь мельком.
Направляясь неизменно по самым коротким дорогам, карета в течение часа следовала по южному побережью таманской бухты. Этого времени путешественникам хватило, чтобы понять: местность чрезвычайно благоприятна для охоты, возможно, как нигде на планете.
Пеликаны[218], бакланы, гагары[219], не считая дроф, прятались в этих болотах в количестве поистине невероятном.
— Я никогда не видел столько водоплавающей дичи! — заметил ван Миттен. — На этих болотах можно выстрелить наудачу, и ни крупицы свинца не будет потеряно зря!
Это замечание голландца не вызвало никаких споров. Господин Керабан охотником не был, а Ахмет думал совсем о другом.
Спор начался только по поводу стаи уток, которую упряжка вспугнула, когда она оставила побережье слева, чтобы двигаться по диагонали на восток.
— Да их целая рота! — воскликнул ван Миттен. — И даже целый полк!
— Полк? Вы хотите сказать, армия? — ухмыльнулся Керабан, пожимая плечами.
— Честное слово, вы правы! — продолжал ван Миттен. — Здесь сто тысяч уток.
— Сто тысяч уток, — передразнил Керабан. — Скажите, двести тысяч!
— О! Двести тысяч!
— Я сказал бы, даже триста тысяч, ван Миттен, и все еще был бы далек от истины.
— Вы правы, друг Керабан, — благоразумно ответил голландец, не желая вынуждать своего спутника дойти до миллиона.
Но в общем прав был все-таки он. Сто тысяч уток — это грандиозная вереница. Но в том фантастическом облаке из птиц, которое отбрасывало огромную тень на бухту, развертываясь против солнца, их было никак не меньше.
Погода радовала, дорога оказалась вполне проходимой. Упряжка быстро продвигалась, и лошади на станциях не заставляли себя ждать. Не было больше господина Саффара, досаждавшего нашим путешественникам столь долго.
Само собой разумеется, что всю надвигавшуюся ночь они собирались мчаться к первым отрогам Кавказа, громада которого смутно обрисовывалась на горизонте. Поскольку путники переночевали в керченской гостинице, то никто и не помышлял о том, чтобы покинуть карету раньше, чем через тридцать шесть часов.
Однако к вечеру, в час ужина, путешественники остановились перед станцией, которая одновременно была и гостиницей. Они не слишком хорошо представляли себе, как обстоит дело с провизией на кавказском берегу и легко ли будет там найти пищу. Поэтому осторожность требовала экономить запасы, сделанные в Керчи.
Гостиница была посредственной, но еды в ней хватало. На это нельзя было жаловаться.
Одна только характерная деталь; хозяин то ли по природной недоверчивости, то ли в силу местного обычая хотел, чтобы все оплачивалось по мере потребления.
Так, когда он принес хлеб, то сказал:
— Это десять копеек.
И Ахмет дал ему десять копеек.
А когда были поданы яйца:
— Это двадцать четыре копейки.
И Ахмет должен был заплатить запрошенные двадцать четыре копейки.
За квас — столько-то! За уток — столько! За соль — да, за соль! — столько!
И Ахмет опять покорялся.
Лишь за скатерть, салфетки да скамейки нужно было платить отдельно и заранее. И так со всем: даже с ножами, стаканами, ложками, вилками, тарелками.
Понятно, что это быстро привело господина Керабана в раздражение. Кончилось тем, что он купил для ужина оптом разную необходимую утварь и не удержался при этом от упреков, которые, впрочем, хозяин гостиницы принял с бесстрастностью, сделавшей бы честь и ван Миттену.
Затем, когда с едой было покончено, Керабан сам превратился в торговца, а хозяин — в покупателя собственной утвари, но за полцены.
— Счастье еще, что он не заставляет платить за пищеварение! — съязвил господин Керабан. — Что за человек! Он достоин быть министром финансов Оттоманской империи! Такой сумел бы обложить налогом каждый взмах веслом на каиках Босфора!
Поужинали, однако, вполне прилично, и это было самым важным, как заметил Бруно. В дорогу путешественники отправились уже в наступившей ночи, темной и безлунной.
Это очень своеобразное впечатление, не лишенное, впрочем, очарования — чувствовать себя уносимым непрерывно рысью упряжки в глубокую темноту. Посреди неизвестной страны, где деревни очень удалены друг от друга, редкие хутора разбросаны по степи на больших расстояниях, вскоре теряется представление о времени. Бубенчики лошадей, неровный стук копыт по земле, скрип колес на песчаной почве, их дребезжание по колеям, изрытым частыми дождями, щелканье бича ямщика… Добавьте к этому свет фонарей, теряющийся во мраке, когда дорога ровная, или цепляющийся за деревья, каменные глыбы и указательные столбы на насыпях у дороги, — и все это вместе составит ансамбль из разных шумов и быстрых видений, к которым лишь немногие путешественники равнодушны. Ты слышишь шумы, видишь ряд мимолетных картин — но все это несколько нереально.
Господин Керабан и его спутники тоже не могли избежать этого ощущения, интенсивность которого временами очень сильна. Сквозь стекла передней кабины они видели, сквозь полудрему, большие тени от упряжки, причудливые, несоразмерные, движущиеся вперед по неясно освещенной дороге.
Было около одиннадцати часов вечера, когда странный звук вывел их из полусонного состояния. Это было нечто вроде свиста, сравнимого с тем, который издает сельтерская вода, вырываясь из бутылки, но в десять раз сильнее. Можно было подумать, что из какого-то котла рвется по трубе сжатый пар.
Упряжка остановилась. Ямщик с трудом удерживал лошадей. Желая узнать, в чем дело, Ахмет быстро опустил стекла и выглянул наружу.
— Что происходит? Почему мы не едем? — спросил он. — Откуда этот шум?
— Это — грязевые вулканы, — ответил ямщик.
— Грязевые вулканы? — переспросил Керабан. — Кто когда-либо слышал о грязевых вулканах? Воистину, странную дорогу ты заставил нас выбрать, племянник Ахмет.
— Господин Керабан, вам и вашим спутникам лучше выйти, — сказал ямщик.
— Выйти? Выйти?
— Да! Предлагаю вам следовать за каретой пешком, пока мы не переберемся через эту территорию, поскольку я уже не справляюсь с лошадьми, и они могут понести.
— Да, — сказал Ахмет, — этот человек прав. Нужно выйти.
— Это пять или шесть верст пути, — прибавил ямщик. — Может быть, восемь, но не больше.
— Вы решились, дядя? — спросил Ахмет.
— Выйдем, друг Керабан, — сказал ван Миттен. — Грязевые вулканы? Нужно посмотреть, что это такое.
Господин Керабан решился, но не без возражений. Все вышли и, двигаясь позади кареты, ехавшей очень медленно, последовали дальше при свете фонарей.
Ночь была чрезвычайно темной. Если голландец надеялся хоть немного разглядеть названные ямщиком творения природы, то он ошибался. Что же до странного свиста, иногда превращавшегося в оглушительный шум, то его нельзя было не слышать.
А случись это днем, вот что можно было бы увидеть: степь на огромном протяжении как бы вздувалась небольшими конусами извержений, схожими с огромными муравейниками, встречающимися в некоторых частях Экваториальной Африки. Из этих конусов, правильно обозначаемых научным названием «грязевые вулканы» (хотя вулканическая активность никаким образом не участвует в данном феномене), вырывались вода, газ и битум. Под давлением водорода, смешанного с углеродом, смесь ила, гипса, известняка, пирита, даже нефти с силой вырывается наружу. Эти вздутия понемногу увеличиваются, разрываются и извергают содержимое, а затем оседают.
Водород, образующийся при таких условиях, обязан своим происхождением медленному, но непрерывному разложению горючего газа, смешанного с этими разными субстанциями. Каменные стены, в которых он содержится, в конце концов разрушаются под действием дождевой или родниковой воды. Тогда и происходит извержение. Как уже говорилось, земля уподобляется бутылке, наполненной шипучей жидкостью, которую упругость газа полностью опорожняет.
Эти извергающиеся конусы в большом количестве покрывают поверхность Таманского полуострова. Встречаются они и на схожих территориях Керченского полуострова, но не в соседстве с дорогой, по которой следовала почтовая карета, почему наши путешественники и не видели их раньше.
— Э, — сказал ван Миттен, почувствовав присутствие светильного газа, — эта дорога небезопасна. Только бы не произошло какого-либо взрыва.
— Вы правы, — ответил Ахмет. — Осторожности ради нужно было бы выключить…
Мысль, которую высказывал Ахмет, без сомнения, пришла в голову и ямщику, привыкшему пересекать эту местность, так как фонари кареты внезапно погасли.
— Внимание, курить нельзя! — сказал Ахмет, обращаясь к Бруно и Низибу.
— Будьте спокойны, господин Ахмет, — ответил Бруно. — Мы вовсе не хотим взорваться.
— Как, — вскричал Керабан, — теперь здесь нельзя и курить?
— Нет, дядя, — живо ответил Ахмет, — нет… По крайней мере, на протяжении нескольких верст.
— Даже сигарету? — продолжал упрямец, с ловкостью старого курильщика уже вертевший в пальцах порядочную щепоть табака.
— Позже, друг Керабан, позже… В интересах всех нас, — сказал ван Миттен. — Курить в этой степи так же опасно, как в пороховом погребе.
— Милая страна, — пробормотал Керабан. — Я очень бы удивился, если бы торговцы табаком могли получать здесь доход. Ну, Ахмет, даже с риском опоздать на несколько дней лучше было бы обогнуть Азовское море.
Ахмет ничего не ответил. Ему вовсе не хотелось возобновлять спор на эту тему. Его дядя, все еще ворча, отправил щепоть табака обратно в карман, и путники продолжали следовать за каретой, бесформенная масса которой едва обрисовывалась в кромешной темноте.
Важно было идти с крайней осторожностью, чтобы избежать падения. Дорога, местами сильно изрытая, была небезопасна для путников. По направлению к востоку она слегка поднималась. По счастью, в этой туманной атмосфере не было ветра. Поэтому испарения поднимались вертикально вверх, а не обволакивали своим ядовитым шлейфом идущих.
Таким образом они прошли примерно полчаса очень медленным шагом. Лошади ржали и постоянно вставали на дыбы. Ямщик удерживал их с трудом. Оси кареты скрипели, когда колеса соскальзывали в какие-нибудь рытвины, но она была прочной и уже прошла испытания в болотах нижнего Дуная. Еще четверть часа — и область извергающихся конусов была бы пройдена.
Внезапно яркий свет возник на левой стороне дороги. Один из конусов только что воспламенился и полыхал ярким пламенем. Степь осветилась на целую версту.
— Кто-то все же курит! — воскликнул Ахмет, шедший немного впереди спутников и поспешно отступивший.
Никто, однако, не курил.
Вдруг впереди послышались крики ямщика. К ним присоединилось хлопанье бича. Возница не мог больше сдерживать упряжку. Испуганные лошади понесли, карета помчалась с огромной скоростью.
Все остановились. Посреди этой темной ночи степь являла собой вид, способный ужаснуть. Пламя, возникшее на одном конусе, перекинулось на соседние. Они стали взрываться один за другим так же сильно, как батареи фейерверка с перекрещивающимися огненными струями.
Теперь равнина была ярко освещена. В этом свете стали видны сотни толстых огнедышащих кочек, пылающих газом и извергающих жидкое содержимое — одни со зловещим блеском нефти, другие — с разнообразной расцветкой из-за присутствия белой серы, пирита или карбоната железа.
Одновременно прокатились глухие раскаты. Не собиралась ли земля разверзнуться и превратиться в единый кратер под давлением излишка взрывчатого материала? Опасность была неминуемой. Инстинктивно господин Керабан и его спутники отодвинулись Друг от друга, чтобы уменьшить возможность провалиться в расщелину всем сразу. Но останавливаться было нельзя. Как можно скорее пересечь эту опасную зону! Благо, дорога была хорошо освещена. Извиваясь среди конусов, она пересекла воспламененную степь.
— Вперед, вперед! — кричал Ахмет.
Ему не отвечали, но повиновались. Каждый устремился по направлению к почтовой карете, которая уже скрылась из виду. Казалось, за горизонтом — вновь темнота. Нужно было миновать зону конусов.
Но что это? Еще более мощный взрыв раздался на самой дороге. Сноп огня брызнул из огромной кочки, за один миг вздувшейся в земле.
Керабан упал, и было видно, как он отбивается от пламени. Если ему не удастся подняться, он погиб!
Одним прыжком Ахмет устремился на помощь своему дяде. Он схватил его раньше, чем до того добрался горящий газ, и оттащил торговца, наполовину задохнувшегося от испарений сероводорода.
— Дядя! Дядя! — кричал он.
Ван Миттен, Бруно, Низиб и Ахмет отнесли Керабана на край склона и попытались заставить его легкие заработать.
Наконец послышались вздохи. Это обнадеживало! Мощная грудь Керабана стала быстро опускаться и подниматься, изгоняя наполнивший ее смертоносный газ. Затем он вернулся к чувствам и жизни. Первыми его словами было:
— Осмелишься ты еще настаивать, Ахмет, что был прав, отказавшись поехать вокруг Азовского моря?
— Нет, конечно. Это вы были правы, дядя!
— Как всегда, племянник, как всегда!
Едва господин Керабан закончил свою фразу, как наступила глубокая темнота, сменившая яркий свет, освещавший всю степь. Конусы внезапно и одновременно погасли. Можно было подумать, что рука рабочего сцены выключила театральный рубильник. Все стало черным и тем более черным, что глаза сохраняли еще на сетчатке впечатление света, источник которого мгновенно иссяк.
Что же произошло? Почему конусы загорелись, раз никакой огонь не приближался к их кратерам?
Вероятное объяснение таково: под влиянием газа, самого по себе загорающегося от контакта с воздухом, произошло то же, что и в 1840 году, когда выгорели окрестности Тамани. Этот газ, фтористый водород, образуется при разложении трупов морских животных, погребенных в глинистых слоях. Он загорается и воспламеняет углеводород, представляющий из себя не что иное, как светильный газ. Так что в любой момент под воздействием ряда климатических условий могут произойти явления самопроизвольного возгорания, причем их невозможно предвидеть.
С этой точки зрения, дороги Керченского и Таманского полуостровов представляют серьезные опасности, которых трудно избежать, поскольку они могут быть внезапными.
Так что господин Керабан был недалек от истины, когда говорил, что любая другая дорога была бы предпочтительнее той, которую выбрал Ахмет.
Но, в конце концов, все избежали опасности — дядя и племянник слегка опаленные, а их спутники — даже без малейшего ожога.
В трех верстах впереди ямщик сдержал лошадей и остановил карету. Как только пламя погасло, он снова зажег фонари. Ведомые этим светом, путешественники, хотя и усталые, благополучно добрались до упряжки. Каждый занял свое место, и карета поехала. Ночь закончилась спокойно, но ван Миттен наверняка надолго запомнил волнующее зрелище. Вот так приключение! Такое можно увидеть разве что в Новой Зеландии, в тот момент, когда там зажигаются источники, расположенные этажами на амфитеатре вулканических холмов.
На следующий день, 6 сентября, в восемнадцати лье от Тамани, обогнув бухту Кизилташ, карета проезжала через городок Анапу, а вечером к восьми часам она остановилась в станице Раевской на границе кавказского района.
Глава шестнадцатая,
в которой речь идет о прекрасных качествах табаков Персии и Малой Азии.
Кавказ представляет собой часть южной России, образуемую высокими горами и огромными плато, вытянувшимися с запада на восток на триста пятьдесят километров[220]. На севере располагается область донских казаков и Ставропольская губерния с калмыцкими и ногайскими степями. На юге — губернии Тифлисская (Тифлис — столица Грузии), Кутаисская, Бакинская, Елисаветпольская[221], Ереванская, затем — провинции Мегрелия, Имеретия, Абхазия, Гурия. С запада от Кавказа — Черное море, с востока — Каспийское.
Вся эта область, расположенная к югу от главного Кавказского хребта, называется также Закавказьем и граничит с Турцией и Персией; все границы сходятся близ горы Арарат, где, согласно Библии, приземлился после потопа ковчег Ноя[222].
Самые разнообразные племена, оседлые и кочевые, населяют эту область. Они принадлежат к картвельской, армянской, черкесской, чеченской, лезгинской группам. На севере обитают калмыки, ногайцы и татары монгольского происхождения, на юге — татары тюркского происхождения, курды и казаки.
Если верить наиболее компетентным ученым, именно из этой полуевропейской-полуазиатской области вышла белая раса, которая населяет ныне Азию и Европу. Поэтому ей и дали название — «кавказская раса».
Три большие русские дороги пересекают этот огромный барьер, над которым господствуют вершины Шат-Эльбруса[223] в четыре тысячи метров, Казбека[224] в четыре тысячи восемьсот метров — высота Монблана — и Эльбруса в пять тысяч шестьсот метров.
Первая из этих дорог — с двойной стратегической и коммерческой значимостью — тянется из Тамани в Поти вдоль побережья Черного моря. Вторая, из Моздока в Тифлис, проходит по Дарьяльскому ущелью. Третья, из Кизляра в Баку, пролегает через Дербент.
Само собой разумеется, что в согласии с Ахметом господин Керабан из этих трех дорог должен был выбрать первую. И действительно, зачем было углубляться в кавказский лабиринт[225], подвергать себя трудностям и, следовательно, задержкам? Первая дорога доходит до порта Поти, а на восточном берегу Черного моря деревень и поселков вполне достаточно.
Существовали, конечно, железные дороги из Ростова во Владикавказ и из Тифлиса в Поти. Ими можно было последовательно воспользоваться, поскольку их разделяет не более ста верст, но Ахмет мудро воздержался предлагать способ передвижения, встретивший слишком плохой прием у его дяди, когда поднимался вопрос о железных дорогах Тавриды и Херсонеса.
Все было условлено, и несокрушимая почтовая карета, которой сделали лишь незначительную починку, утром 7 сентября покинула станицу Раевская и выехала на прибрежную дорогу.
Ахмет решил двигаться с максимальной скоростью. Ему оставалось двадцать четыре дня, чтобы закончить путешествие и добраться до Скутари к назначенной дате. И в этом пункте дядя был с ним в полном согласии. Ван Миттен предпочел бы путешествовать без спешки, наслаждаться обилием впечатлений и не быть связанным точной датой. Но он был не более чем сотрапезником, приглашенным обедать у своего друга Керабана. Теперь его везли в Скутари. Что мог ван Миттен желать еще?
Однако Бруно перед тем, как направиться в Кавказскую Россию, счел нужным для очистки совести сделать ему несколько замечаний, а заодно и предложений.
— Почему бы нам, хозяин, — сказал Бруно, — не предоставить господину Керабану и господину Ахмету мчаться обоим без отдыха и без передышки вдоль этого Черного моря?
— Бросить их, Бруно? — удивился ван Миттен.
— Да, бросить, хозяин, бросить, пожелав им доброго пути.
— И остаться здесь?
— Да, остаться здесь, чтобы спокойно осмотреть Кавказ, раз уж наша злосчастная звезда привела нас сюда. В конце концов, здесь мы найдем такое же хорошее убежище, как и в Константинополе, от притязаний госпожи ван…
— Не произноси это имя, Бруно!
— Я не произнесу его, хозяин, чтобы вам не было неприятно. Но ведь это из-за нее мы должны впутываться в подобную авантюру. Мчаться день и ночь в почтовой карете, рисковать увязнуть в болоте или поджариться на огне в провинции! Искренне: это слишком! Очень даже слишком! Итак, я предлагаю не спорить с господином Керабаном — вы не возьмете верх, — но предоставить ему ехать дальше, предупредив коротко и любезно, что снова встретитесь с ним в Константинополе, когда вам будет угодно туда вернуться.
— Это было бы неприлично, — возразил ван Миттен.
— Это было бы благоразумно, — сказал Бруно.
— Ты считаешь, что есть основания жаловаться?
— Очень даже есть, и к тому же, не знаю, заметили ли вы, но я начинаю худеть.
— Не слишком, Бруно, не слишком!
— А я чувствую это, и если подобный режим продолжится, то скоро я дойду до состояния скелета.
— Ты взвешивался, Бруно?
— Я хотел взвеситься в Керчи, — ответил слуга, — но нашел только весы для писем.
— И этого не хватило?.. — спросил, смеясь, ван Миттен.
— Нет, хозяин, — сказал Бруно серьезным тоном. — Но еще немного, и этого хватит, чтобы взвесить вашего слугу. Ну так что, предоставим господину Керабану следовать своим путем?
Ясно, что их способ путешествовать не мог нравиться ван Миттену, человеку степенного темперамента, никогда и ни в чем не торопящегося. Но мысль огорчить своего друга Керабана, покинув его, была столь неприятной, что он отказался даже обсуждать ее.
— Нет, Бруно, нет, — сказал он, — я — его приглашенный…
— Приглашенный, — вскричал Бруно, — гость, которого обязывают сделать семьсот лье вместо одного!
— Не важно!
— Разрешите мне сказать, что вы не правы, хозяин! — горячо заговорил Бруно. — Я это повторяю в десятый раз! Наши беды еще не закончились, и у меня предчувствие, что вам достанется, может быть, даже больше, чем остальным.
Исполнятся ли предчувствия Бруно? Будущее должно показать это. Как бы там ни было, но, предупредив хозяина, он выполнил свой долг преданного слуги, и раз ван Миттен решил продолжать путешествие, столь же абсурдное, сколь и утомительное, то ему ничего не оставалось, кроме как следовать за ним.
Дорога вдоль побережья почти неуклонно повторяла очертания береговой линии Черного моря. Если иногда она и отклонялась, чтобы обойти препятствие или обслужить какой-либо поселок, то не больше, чем на несколько верст. Последние отроги Кавказского хребта, проходящего здесь почти параллельно берегу, сходят тут на нет. На горизонте, на востоке, обрисовывается, как рыбья челюсть с неровными зубами, кусающими небо, вечно заснеженная вершина.
В час после полудня путники начали огибать маленькую Цемесскую бухту в семи лье от Раевской, намереваясь еще через восемь лье добраться до городка Геленджик. Как видим, эти селения находятся довольно близко друг от друга.
На побережье черноморских районов на таком приблизительно расстоянии встречается в среднем по одному поселку, но за пределами этих жилых островков, иногда не более значительных, чем деревня или деревушка, страна почти пустынна. Торговля осуществляется только каботажниками[226] побережья.
Эта полоса земли между подножием хребта и морем имеет приятный вид. Почва здесь лесистая. Буйно растут дубы, липы, орехи, каштаны и платаны. Их переплетают дикие виноградные лозы, подобно лианам[227] тропических лесов. Повсюду соловьи и славки, чвиркая, взлетают с полей азалеи[228], взращенной из семян самой природой на этой плодородной земле.
К полудню путешественники встретили целое племя кочевых калмыков, делящееся на улусы, а те, в свою очередь, — на хотоны. Эти хотоны — настоящие бродячие деревни, состоящие из определенного числа кибиток или палаток, которые ставятся то в степи, то в зеленой долине, то на краю водного потока — по воле вождя.
Известно, что калмыки — народ монгольского происхождения. Некогда их было очень много в кавказском регионе, но строгости, если не сказать притеснение, со стороны русской администрации вызвала их значительную эмиграцию в Азию[229].
Калмыки сохранили свои обычаи и особую одежду. Ван Миттен отметил в своих записях, что мужчины носят широкие брюки, сапоги из сафьяна, халат, нечто вроде просторной душегрейки и квадратный колпак, который окружает матерчатая полоса с подкладкой из бараньей кожи. У женщин почти такая же одежда да еще пояс и колпак, из-под которого спадают косы, украшенные цветными лентами. Что касается детей, то они ходят почти голыми; зимой, чтобы согреться, свертываются клубком в постепенно остывающем очаге кибитки и спят там под теплым пеплом.
Маленькие ростом, но сильные, прекрасные наездники, живые, ловкие, проворные, довольствующиеся небольшим количеством похлебки, сваренной на воде из муки с кусками конины, но закоренелые пьяницы, знаменитые воры, невежественные до неумения читать, крайне суеверные, неисправимые азартные игроки — таковы эти кочевники, постоянно передвигающиеся по северокавказским степям. Почтовая карета проехала через один из их хотонов, почти не обратив на себя внимания. Калмыки лишь равнодушно посмотрели на путешественников, один из которых, напротив, взирал на них с интересом. Возможно, кочевники с завистью смотрели на быструю упряжку, галопировавшую по дороге. Но, к счастью для господина Керабана, они этим и ограничились. Так что лошади смогли прибыть на следующую станцию, не поменяв места в своей конюшне на колышек для привязи в калмыцком стойбище.
Обогнув Цемесскую бухту, карета оказалась в узкой щели между первыми отрогами хребта и побережьем. Но дальше дорога расширялась заметным образом и становилась легкопроходимой.
В восемь часов вечера приехали в городок Геленджик. Там сменили лошадей, наскоро поужинали и в девять часов поехали дальше. Всю ночь карста двигалась то под облачным, то под звездным небом при шуме морского прибоя, вызванного плохой погодой периода равноденствия. На следующий день в семь часов утра добрались до станицы Береговой, в полдень — до станицы Джубской. В шесть часов вечера проехали Тенгинский, в полночь прибыли в Небугскую. Еще через день в восемь часов достигли станицы Лазаревской и, через два часа, — поселка Душа[230].
Ахмет не мог бы пожаловаться. Путешествие осуществлялось без неприятностей — что ему очень нравилось — и без происшествий — что не нравилось ван Миттену. Записки последнего не заполнялись ничем, кроме скучных географических названий. Ни одного нового наблюдения, ни одного впечатления, достойного быть сохраненным в памяти!
В поселке Душа карета задержалась на два часа, пока начальник почты посылал за лошадьми, отправленными на пастбище.
— Хорошо, — сказал Керабан, — пообедаем так комфортабельно, как позволяют обстоятельства.
— Да, пообедаем, — согласился ван Миттен.
— И притом основательно, — пробормотал Бруно, поглядывая на свой похудевший живот.
— Возможно, эта остановка, — продолжал его хозяин, — явит нам нечто неожиданное, чего так не хватает нашему путешествию. Я думаю, что мой юный друг Ахмет даст нам перевести дух.
— До прибытия лошадей, — ответил Ахмет. — Сегодня уже девятое число!
— Вот ответ, который мне нравится, — отреагировал Керабан. — Давайте посмотрим, что здесь в заведении.
Это была посредственная гостиница Души, построенная на берегах маленькой речки Мзымта, низвергающейся с соседних отрогов.
Поселок очень похож на те казачьи поселения, называющиеся станицами с палисадом и воротами, над которыми возвышается квадратная башенка с день и ночь бодрствующим часовым. Под сенью великолепных деревьев, в домах с высокими соломенными крышами и глинобитными стенами, живет если не богатое, то и не бедное население.
Впрочем, казаки почти полностью потеряли свое природное своеобразие в результате постоянных контактов с сельским населением Восточной России[231]. Но они остались храбрыми, проворными, бдительными, прекрасными стражами военных линий, порученных им для присмотра, и справедливо слывут лучшими в мире всадниками — как в погонях за постоянно восстающими горцами, так и в состязаниях или турнирах, где проявляют себя достойными наездниками.
Эти туземцы принадлежат к красивой породе, узнаваемой по элегантности, изяществу форм. Но не по одежде — здесь они уподобляются кавказским горцам. И все-таки под высокими, подбитыми мехом колпаками легко узнаешь их энергичные лица, хотя и полускрытые густой бородой, доходящей до скул.
Когда господин Керабан, Ахмет и ван Миттен сели за стол в гостинице, им предложили еду из блюд, взятых в соседнем духане (нечто вроде лавки), где хозяин одновременно — и колбасник, и мясник, и бакалейщик. Путникам подали жареного индюка, пирог из кукурузной муки с вкраплениями из буйволиного сыра, называемого хачапури — неизменное национальное блюдо[232], блины — разновидность оладий на кислом молоке; затем для питья — несколько бутылок густого пива и фляги с водкой, которую русские потребляют в невероятных количествах. Искренне говоря, лучшего и нельзя было требовать в гостинице маленького поселка, затерянного на окраине Черного моря. И сотрапезники отдали честь этой пище, внесшей разнообразие в их обычное дорожное меню.
Закончив обед, Ахмет поспешил из-за стола, предоставив Бруно с Низибом и далее обильно угощаться жареным индюком и оладьями. Как обычно, он отправился на почтовую станцию, чтобы ускорить подачу упряжки, твердо решив удесятерить, если надо, те пять копеек за версту и лошадь, полагавшиеся начальнику почты, не говоря уже о чаевых для ямщиков.
В ожидании его господин Керабан и ван Миттен водворились во что-то вроде зеленой беседки, мшистые сваи которой с журчанием омывала река.
Это была редкая возможность отдаться сладости безделья и восхитительной дремоты, на Востоке именуемой кайфом.
Да еще при том, что в их распоряжении имелись наргиле — прекрасное дополнение к еде, достойной приличного переваривания. Оба приспособления достали из кареты и принесли курильщикам.
Тотчас же наргиле были набиты табаком, но если господин Керабан по неизменной привычке употребил персидский томбеки[233], то ван Миттен остался верен обычному для него сорту латакие из Малой Азии.
Когда табак был зажжен, курильщики растянулись на скамье рядом друг с другом и гибкая трубка-дымовод, прошитая золотыми нитями и кончающаяся мундштуком из балтийского янтаря, оказалась у каждого между губами.
Ароматный дым попадал в рот, проходя через чистую воду в наргиле.
В течение нескольких минут господин Керабан и ван Миттен целиком отдались бесконечному наслаждению, которое доставляет наргиле, более предпочтительный, чем чубук, сигара или сигарета, и безмолвствовали с полузакрытыми глазами, как бы возлежа не только на скамье, но и на перине, созданной завитками табачного дыма.
— Вот это — чистое наслаждение, — сказал наконец торговец, — и я не знаю ничего лучше для времяпрепровождения, чем такое интимное собеседование со своим наргиле.
— Собеседование без спора, — заметил ван Миттен, — которое от этого только приятнее.
— Поэтому, — продолжал Керабан, — турецкое правительство, как всегда, поступило очень безрассудно, обложив табак налогом, который удесятерил его стоимость. Благодаря этой глупой идее использование наргиле становится все более редким и однажды совсем прекратится.
— Это в самом деле было бы печально, друг Керабан.
— О, друг ван Миттен, у меня к табаку такое пристрастие, что я предпочел бы умереть, но не отказаться от него. Да! Умереть! И если бы я жил во времена Мурада Четвертого[234], этого деспота, пожелавшего запретить его употребление под страхом смерти, то скорее увидели бы мою голову скатившейся с плеч, чем трубку — выпавшей из губ!
— Я думаю так же, как и вы, друг Керабан, — горячо откликнулся голландец, втянув в себя две или три добрые затяжки.
— Не так быстро, ван Миттен, пожалуйста, не вдыхайте так быстро! Вы не успеваете распробовать этот вкусный дым и кажетесь мне обжорой, который проглатывает куски, не жуя их.
— Вы всегда правы, друг Керабан, — улыбнулся ван Миттен, ни за что в мире не пожелавший бы нарушить столь сладостное спокойствие ненужными препирательствами.
— Всегда прав, друг ван Миттен.
— Но что меня поистине удивляет, друг Керабан, так это то, что мы, торговцы табаком, испытываем такое удовольствие, употребляя свой собственный товар.
— Это почему же? — спросил Керабан, который не переставал держаться немного настороже.
— Если верно, что пирожники обычно испытывают неприязнь к пирожным, а кондитеры — к производимым ими сладостям, то, мне кажется, что торговец табаком должен ненавидеть…
— Одно замечание, ван Миттен, — перебил собеседника Керабан, — только одно, пожалуйста.
— Какое?
— Вы когда-нибудь слышали, что торговец вином испытывает неприязнь к продаваемым им напиткам?
— Нет, конечно.
— Ну вот, а торговцы вином и торговцы табаком — это совершенно одно и то же.
— Пусть так! — согласился голландец. — Ваше объяснение мне кажется превосходным.
— Но, — продолжал Керабан, — поскольку вы, кажется, ищете со мной ссоры на эту тему…
— Я не ищу с вами ссоры, друг Керабан! — живо отпарировал ван Миттен.
— Ищете!
— Нет, уверяю вас.
— Но поскольку вы делаете несколько агрессивное замечание о моих табачных пристрастиях…
— Поверьте…
— Нет, делаете! Нет, делаете! — настаивал на своем Керабан, начиная возбуждаться. — Я умею понимать намеки…
— Не было ни малейшего намека с моей стороны, — ответил ван Миттен, который, возможно, под влиянием хорошего обеда тоже начинал терять терпение из-за настойчивости негоцианта.
— Намек был, — упорствовал Керабан, — и я в свою очередь сделаю замечание.
— Пожалуйста!
— Не понимаю, нет, не понимаю, как вы позволяете себе курить латакие в наргиле. Это недостаток вкуса, недостойный уважающего себя курильщика.
— Но мне кажется, что я имею полное право на это, — ответил ван Миттен, — поскольку предпочитаю табак из Малой Азии…
— Малой Азии! Вот уж! Малая Азия далека от того, чтобы стоить Персии, когда речь идет о табаке.
— Это зависит…
— Томбеки даже после двойного промывания еще имеет активные свойства, бесконечно превосходящие аналогичные показатели латакие.
— Я думаю! — воскликнул голландец. — Слишком активные свойства, обязанные своим присутствием белладонне[235]!
— Белладонна в соответствующих количествах может только улучшить качества табака.
— Для тех, кто просто хочет отравиться! — сказал ван Миттен.
— Это вовсе не яд!
— Яд, и один из сильнейших!
— Разве я от этого умер? — выкрикнул Керабан и, прибегнув к неоспоримо наглядному аргументу, проглотил целую затяжку.
— Нет, но умрете.
— Хорошо, но даже в час моей смерти, — проговорил Керабан чересчур громким голосом, — я буду настаивать, что томбеки более предпочтителен, чем эта высушенная трава, которую называют латакие!
— Подобное заблуждение без возражений оставить просто нельзя! — твердо сказал ван Миттен, в свою очередь закусивший удила.
— Тем не менее оно останется!
— И вы осмеливаетесь говорить это человеку, в течение двадцати лет закупающему табак!
— А вы беретесь доказать противоположное торговцу, продающему его в течение тридцати лет!
— Двадцать лет!
— Тридцать лет!
В этой новой фразе спора оба оппонента поднялись в один и тот же момент. Но пока они резко жестикулировали, мундштуки выпали из их губ, а трубки упали на землю. Оба тотчас же подняли их и продолжали спорить, дойдя уже почти до оскорбительных выражений.
— Решительно, ван Миттен, — заявил Керабан, — вы самый отъявленный упрямец, каких я знаю!
— После вас, Керабан, после вас!
— Меня?
— Вас! — воскликнул голландец, уже не владевший собой. — Посмотрите только на дым латакие, который я выдыхаю! Он прекрасен!
— А вы, — кричал Керабан, — взгляните на дым томбеки. Я его выпускаю, как ароматное облако!
И оба принялись так втягивать дым из своих янтарных мундштуков, что почти перестали дышать воздухом. При этом оба направляли выдыхаемый дым прямо в лицо друг другу.
— Принюхайтесь только, — говорил один, — к аромату моего табака!
— А вы принюхайтесь-ка, — отвечал другой, — к аромату моего!
— Я вас заставлю признать, — сказал наконец ван Миттен, — что в вопросе о табаке вы ничего не смыслите.
— А я вас… — кипятился Керабан. — Да вы хуже последнего из курильщиков.
В этот момент под влиянием гнева друзья почти кричали — их было слышно снаружи. Они дошли уже до того предела, за которым грубые оскорбления могли полететь туда и сюда, подобно снарядам на поле боя.
Тут, однако, появился Ахмет. За ним следовали привлеченные шумом Бруно и Низиб. Все трое остановились на пороге беседки.
— Посмотрите-ка, — воскликнул Ахмет, разражаясь смехом, — мой дядя Керабан курит наргиле господина ван Миттена, а господин ван Миттен курит наргиле моего дяди Керабана!
Его веселью вторили Бруно и Низиб.
В самом деле, подбирая мундштуки, оба спорщика ошиблись, и каждый взял трубку другого. Не замечая этого и продолжая возвещать о более высоких достоинствах своих излюбленных Табаков, Керабан курил латакие, а ван Миттен — томбеки.
Оба не смогли удержаться от смеха и в конце концов от чистого сердца обменялись рукопожатием, как два друга, чью взаимную привязанность не мог испортить никакой спор даже по такому важному вопросу.
— Лошади запряжены в карету, — сказал Ахмет, — и мы можем ехать.
— Поехали же! — скомандовал Керабан.
Затем он и ван Миттен передали Бруно и Низибу свои наргиле, которые чуть было не превратились в военные орудия, и все заняли места в экипаже.
Но, поднимаясь, Керабан не удержался от того, чтобы сказать тихо своему другу:
— Раз уж вы попробовали, ван Миттен, признайтесь теперь, что томбеки намного превосходит латакие!
— Предпочитаю признаться, — ответил голландец, сердившийся на себя за то, что оспаривал мнение своего друга.
— Спасибо, друг ван Миттен, — поблагодарил Керабан, взволнованный такой снисходительностью, — вот признание, которого я никогда не забуду!
И оба скрепили еще одним мощным рукопожатием новый пакт о дружбе, который никогда не должен был нарушиться.
Тем временем, уносимая галопом своей упряжки, карета быстро катилась по прибрежной дороге.
В восемь часов вечера была достигнута граница Абхазии; спутники остановились на почтовой станции и легли спать до следующего утра.
Глава семнадцатая,
в которой происходит серьезнейшее происшествие, на котором и заканчивается первая часть нашей истории.
Абхазия представляет собой отдельную кавказскую провинцию. Гражданский способ правления в ней не введен до сих пор, и здесь все подчинено военному режиму. На юге границей Абхазии служит река Ингури, чьи воды отделяют Абхазию от Мегрелии, Кутаисской губернии.
Абхазия — прекрасная область, одна из богатейших на Кавказе, однако система управления не способствует извлечению пользы из ее богатств. Жители Абхазии только-только начинают становиться собственниками земли, до того полностью принадлежавшей правившим князьям из персидской династии. Поэтому местные жители еще полудики, едва представляют себе идеи времени, не имеют письменного языка и разговаривают на диалекте, который соседи не понимают, так как он настолько беден, что в нем нет слов для выражения даже самых элементарных понятий.
Путешествуя, ван Миттен не мог не заметить большого контраста между этой областью и гораздо более цивилизованными районами, которые он только что пересек.
Сбоку от дороги был виден типично абхазский пейзаж: кукурузные и изредка хлебные поля; козы и бараны, за которыми тщательно присматривают; буйволы, лошади и коровы, свободно разгуливающие по пастбищам; прекрасные белые тополя, смоковницы, орехи, дубы, липы, платаны, высокие кусты самшита и падуба[236]. Как правильно заметила бесстрашная путешественница госпожа Карла Серена, «если сравнишь эти три смежные провинции — Мегрелию, Самурзакан[237] и Абхазию, то можно сказать, что их уровень цивилизации находится на той же ступени развития, что и окультуривание окружающих их гор: в Мегрелии, социально наиболее развитой, вершины покрыты лесом и приносят хозяйственную пользу; значительно отстающая Самурзакан представляет собой полудикий ландшафт; наконец, Абхазия, остающаяся почти в первобытном состоянии, являет лишь скопище невозделанных гор, которых еще не коснулась рука человека. Именно Абхазия из всех кавказских областей будет последней приобщившейся к благам индивидуальной свободы».
После того как путешественники пересекли границу, их первой остановкой был поселок Гагры, красивое селение с очаровательной церковью Святой Ипатии, ризница которой служит в настоящее время подвалом; форт, являющийся одновременно и военным госпиталем; море — с одной стороны, а с другой — поле, засаженное фруктовыми деревьями, большими акациями и целыми зарослями благоухающих роз… Вдали, но не дальше, чем в пятидесяти верстах, возникал пограничный хребет, разделяющий Абхазию и Черкесию, жители которой потерпели поражение от русских в кровавой компании 1859 года[238] и покинули это чудесное побережье.
Прибыв сюда в девять часов вечера, карета задержалась на ночь. Господин Керабан и его спутники отдохнули в одном из духанов поселка и выехали из него утром следующего дня.
В полдень, через шесть лье пути, уже Пицунда предоставила им сменных лошадей. Там ван Миттен получил возможность в течение получаса любоваться церковью, в которой была резиденция древних патриархов Западного Кавказа. Это строение с кирпичным куполом, некогда покрытым медью, расположением нефов[239] соответствующим очертаниям греческого креста[240], своими настенными фресками[241] и фасадом, затененным вековыми вязами, олицетворяет само совершенство. Несомненно, это один из самых интересных памятников византийского периода шестого века нашей эры.
В тот же день карета проехала через деревушки Гудаута и Гумиста, в ночью, стремительно преодолев восемнадцать лье, путешественники остановились на несколько часов отдохнуть в городе Сухум-Кале[242], построенном в обширной торговой бухте, простирающейся на юге до мыса Кодори.
Сухум-Кале — основной порт Абхазии, однако во время последней войны город был частично разрушен. Греков, армян, турок, русских в нем заметно больше, чем абхазов. Теперь здесь господствует военный элемент, и с пароходов из Одессы и Поти многочисленные посетители направляются в казармы, построенные возле старой крепости, возведенной в шестнадцатом веке, в царствование Мурада III, то есть в эпоху оттоманского господства.
Еда по чисто грузинскому меню (кислый суп с куриным бульоном, рагу из шпигованного мяса, кислое молоко с шафраном), которую два турка и один голландец могли оценить лишь как посредственную, предшествовала отъезду в девять часов утра.
Оставив позади себя симпатичный поселок Келасури, расположенный в тенистой долине одноименной речки, путешественники пересекли Кодори в двадцати семи верстах от Сухум-Кале. Карета поехала затем вдоль зарослей высокого строевого леса. Чем не настоящие девственные тропики — со спутанными лианами и густыми кустарниками, которые отступают только перед железом и огнем, где хватает змей, волков, медведей и шакалов, — словом, чем не дебри Америки, перенесенные на побережье Черного моря! Но топор предпринимателей уже прогуливается по вековым чащам, и через недолгое время эти прекрасные деревья исчезнут ради нужд промышленности, строительства домов и кораблей.
Промелькнули, друг за другом, Очамчира — главный населенный пункт района, включающего Кодор и Самурзакан; играющий важную роль приморский поселок Хори[243] расположенный на двух реках… Византийский храм последнего заслуживает осмотра, но из-за отсутствия времени так и остался непосещенным. Гагида и Анаклия тоже остались позади. Этот день оказался одним из самых длинных, считая по часам езды, и одним из самых быстрых, если судить по расстоянию, пройденному галопом упряжки. Вечером, к одиннадцати часам, путешественники прибыли к границе Абхазии, перешли вброд реку Ингури и через двадцать пять верст остановились в Редут-Кале[244], главном населенном пункте Мегрелии, одной из провинций Кутаисской губернии.
Остававшиеся несколько часов ночи были посвящены сну. Как ни устал ван Миттен, он, однако, поднялся ранним утром, чтобы успеть сделать хотя бы беглую ознакомительную экскурсию до отъезда из этого места. Благо, господин Керабан еще спал в достаточно приличной комнате лучшей гостиницы. А вот его племянник уже был на ногах и собирался выйти по делам.
Заметив Ахмета, ван Миттен спросил:
— Вы, мой юный друг, не разделите ли со мной утреннюю прогулку?
— Разве у меня есть на это время? — вопросом на вопрос ответил Ахмет. — Мне нужно заняться пополнением наших дорожных припасов. Очень скоро мы пересечем русско-турецкую границу, и в пустынях Лазистана[245] и Анатолии раздобыть хоть что-то будет нелегко. Так что, как вы понимаете, я не могу терять ни мгновения.
— Но после этого, — продолжал голландец, — разве у вас не будет нескольких свободных часов?..
— После этого, господин ван Миттен, мне надо навестить нашу почтовую карету, договориться с каретником, чтобы он затянул гайки, смазал оси, посмотрел, не стерся ли тормоз, и сменил тормозную цепь. Нужно, чтобы после перехода границы нам не требовалась починка. Я собираюсь привести карету в отличное состояние и очень надеюсь, что она благополучно закончит эту удивительную поездку вместе с нами.
— Хорошо! Ну а после? — не отступал ван Миттен.
— После я займусь сменой лошадей и пойду на почту, чтобы уладить это.
— Отлично! А потом? — еще раз спросил ван Миттен, не отказавшийся от своей мысли.
— Потом, — ответил Ахмет, — пора будет отправляться и мы уедем. Так что я вас покидаю.
— Одну минуточку, мой юный друг, — удержал его голландец, — я хочу кое-что вам предложить.
— Предлагайте, господин ван Миттен, только быстро.
— Вы, без сомнения, знаете, что представляет собой провинция Мегрелия?
— Приблизительно.
— Это местность, орошаемая поэтическим Фасисом[246], золотые блестки из которого некогда украшали мраморные ступени дворца на его берегах.
— Действительно.
— Здесь расположена легендарная Колхида, куда Ясон и его аргонавты прибыли, чтобы при содействии волшебницы Медеи захватить драгоценное руно, которое сторожил ужасный дракон и страшные быки, изрыгавшие пламя[247].
— Не отрицаю.
— Наконец, именно здесь, в этих горах, прижимающихся к горизонту, на этой скале Хомли, возвышающейся над современным городом Кутаиси, Прометей, сын Иапета и Климены, дерзко похитив огонь с неба, был прикован к скале по приказу Зевса. И гриф вечно терзает его сердце[248].
— Совершенно верно, господин ван Миттен; но, повторяю, я очень тороплюсь! К чему клонится ваша речь?
— Вот к чему, мой юный друг, — ответил голландец, принимая самый любезный вид. — Несколько дней, проведенных в этой части Мегрелии и Кутаиси, могли бы быть хорошо употреблены с пользой для путешествия и…
— Таким образом, — догадался Ахмет, — вы предлагаете нам задержаться на некоторое время в Редут-Кале?
— О, четырех или пяти дней вполне хватит…
— Предложили бы вы это моему дяде Керабану? — спросил не без хитрости Ахмет.
— Я? Никогда, мой юный друг! — ответил голландец. — Это привело бы к спору. А после достойной сожаления сцены с наргиле я никогда больше не начну никакого спора с этим прекрасным человеком! Можете мне поверить.
— И вы поступите разумно.
— Но сейчас я обращаюсь вовсе не к грозному Керабану, а к своему молодому другу Ахмету.
— Как раз здесь вы и ошибаетесь, господин ван Миттен, — улыбнулся Ахмет, беря его за руку. — Сейчас вы разговариваете вовсе не с молодым другом.
— А с кем же?
— С женихом Амазии, и вы хорошо знаете, что он-то не может терять ни часу.
После этого Ахмет убежал, чтобы заняться приготовлением к отъезду. Раздосадованный ван Миттен вынужден был ограничиться малопознавательной прогулкой к крепости Редут-Кале в сопровождении обескураженного Бруно.
В полдень путешественники были готовы к отбытию. Карета, тщательно осмотренная, обещала отлично служить еще длительное время. Ящик для провизии был наполнен, и в этом смысле нечего было опасаться еще много верст или, вернее, агачей[249] поскольку на втором этапе маршрута нужно было ехать по азиатской Турции. Так что Ахмет мог быть доволен собственной предусмотрительностью. Он все успел, обо всем позаботился!
Господин Керабан тоже был рад, видя, что поездка совершается без аварий и происшествий. Его самолюбие старотурка вскоре будет удовлетворено, когда он появится на левом берегу Босфора, смеясь над оттоманскими властями, вводящими несправедливые налоги! Редут-Кале находился не далее, чем в девяноста верстах от турецкой границы, так что через двадцать четыре часа самый упрямый из турок мог ступить ногой на турецкую территорию. Там он наконец будет у себя дома.
— В дорогу, племянник, и да поможет нам Аллах и дальше! — воскликнул он бодрым голосом.
— В дорогу, дядя! — отозвался Ахмет.
И оба они заняли место в кабине. За ними последовал ван Миттен, тщетно пытавшийся хотя бы рассмотреть мифологическую кавказскую вершину, на которой Прометей искупал свое святотатство.
Под щелканье бича и ржание мощной упряжки карета тронулась. Через час она пересекла границу Гурии, присоединенной к Мегрелии в 1801 году. Ее главный город — Поти, достаточно значительный черноморский порт, связанный железной дорогой с Тифлисом, столицей Грузии.
Дорога поднималась по плодородной местности. Повсюду встречались деревни, где дома отнюдь не лепились друг к другу, как ласточкины гнезда. Нет, — они были разбросаны посреди кукурузных полей. Нет ничего более странного, чем вид этих сооружений, похожих и впрямь больше не на дома, а на гнезда: они сплетены из соломы. Чем не произведения корзинщика! Ван Миттен не забывал заносить все эти особенности в свой путевой дневник. И все же отнюдь не такие незначительные детали хотел бы голландец записывать во время поездки по древней Колхиде. Но, может быть, ему больше повезет, когда он окажется на берегах Риони, реки, являющейся не чем иным, как знаменитым античным Фасисом, и, если верить некоторым именитым географам, одной из четырех рек рая!
Через час путешественники остановились перед железнодорожной линией Поти — Тифлис, в пункте, где дорога пересекается с ней за версту до станции Сакарио[250]. Там находился переезд, которым необходимо было воспользоваться, чтобы, сократив дорогу, добраться до Поти по левому берегу реки.
Итак, лошади остановились перед закрытым шлагбаумом. Ямщик стал звать дежурного по переезду, который, однако, не появлялся.
Керабан высунул голову в дверцу.
— Теперь еще и эта проклятая железнодорожная кампания будет заставлять нас терять время? — воскликнул он. — Почему шлагбаум закрыт для экипажей?
— Без сомнения, потому, что скоро приедет поезд, — хладнокровно заметил ван Миттен.
— Зачем он приедет? — спросил Керабан.
Ямщик продолжал звать, но безрезультатно. Никто не появлялся в дверях домика дежурного по переезду.
— Да свернет ему Аллах шею! — закричал Керабан. — Если он не появится, я сумею открыть сам.
— Немного спокойствия, дядя! — сказал Ахмет, удерживая Керабана, который собирался спуститься.
— Спокойствия?
— Да, вот и дежурный!
В самом деле, дежурный вышел из домика и неторопливо направился к упряжке.
— Мы можем проехать или нет? — спросил Керабан сухим тоном.
— Можете, — ответил дежурный. — Поезд из Поти придет не раньше, чем через десять минут.
— Тогда откройте ваш шлагбаум и не заставляйте нас напрасно терять время. Мы торопимся.
— Сейчас открою, — ответил дежурный. И, говоря это, он пошел поднять шлагбаум на другой стороне колеи. Затем вернулся, чтобы поднять и тот, перед которым стояла упряжка. Делал он все это степенно как человек, которому требования путешественников совершенно безразличны.
Господин Керабан уже кипел от нетерпения.
Наконец проход был свободен на все четыре стороны, и карета двинулась через колею.
В этот момент с противоположной стороны появилась группа путешественников. Некий турецкий господин на великолепной лошади в сопровождении четырех всадников вознамерился проехать через переезд.
Было ясно, что это важное лицо. Лет тридцати пяти, высокого роста, с благородной осанкой, свойственной кавказским народам. Лицо довольно красивое, с глазами, зажигающимися только от страсти, матового тона лоб, черная кудрявая борода до половины груди, губы, не умеющие улыбаться. В общем, физиономия властного человека, могущественного в силу положения и состояния, привыкшего осуществлять все свои желания и исполнять все свои прихоти. И уж конечно, было ясно, что противодействие могло бы толкнуть его на крайности. Было что-то первобытное в этом человеке, у которого турецкий тип смешивался с арабским.
Господин был одет в простой дорожный костюм, скроенный по моде богатых османов, то есть скорее азиатский, чем европейский. Без сомнения, под своим темного цвета кафтаном он старался скрыть исходящий от него блеск золота.
В момент, когда упряжка достигла середины железнодорожной колеи, группа всадников добралась до нее тоже. Поскольку узость переезда не позволяла карете и всадникам пройти одновременно, то требовалось, чтобы кто-то из них отступил.
Итак, упряжка остановилась, и всадники сделали то же. Однако новоприбывший господин, кажется, вовсе не был в настроении уступить проход господину Керабану. Турок против турка — это могло привести к осложнениям.
— Посторонитесь! — крикнул Керабан всадникам, чьи лошади противостояли его упряжке.
— Посторонитесь сами! — ответил оппонент, похоже, решивший не отступать ни на шаг.
— Я прибыл первым!
— Ну а проедете вторым!
— Я не уступлю!
— Я тоже.
Спор угрожал принять дурной оборот.
— Дядя, — сказал Ахмет, — какая нам разница…
— Большая разница, племянник!
— Друг мой… — вмешался ван Миттен.
— Оставьте меня в покое! — потребовал Керабан тоном, пригвоздившим голландца к месту в его углу.
В этот миг вмешался дежурный по переезду, крича:
— Торопитесь! Торопитесь! Поезд из Поти вот-вот появится! Торопитесь!
Но господин Керабан почти не слышал его. Открыв дверцу кареты, он вышел на рельсы вместе с Ахметом и ван Миттеном, Бруно и Низиб также устремились к ним.
Господин Керабан направился прямо к всаднику, схватил его лошадь за узду и крикнул с яростью, которую уже не мог сдержать:
— Вы освободите мне проезд?
— Никогда!
— Посмотрим!
— Посмотрим!
— Вы не знаете господина Керабана!
— А вы господина Саффара!
Действительно, это был тот самый господин Саффар, ехавший в Поти после недолгого пребывания в провинциях Южного Кавказа.
Имя Саффара, личности, захватившей лошадей на станции в Керчи, могло только еще больше возбудить гнев Керабана. Уступить человеку, которого он уже столько раз проклинал! Никогда! Он скорее дал бы раздавить себя копытами его лошади.
— А, это вы — господин Саффар? — воскликнул он. — Отлично! Назад, господин Саффар!
— Вперед, — сказал Саффар, делая знак всадникам своего эскорта взять переезд силой.
Ахмет и ван Миттен, понимая, что ничто не заставит Керабана уступить, приготовились прийти ему на помощь.
— Проезжайте, проезжайте же! — повторял дежурный. — Вот уже поезд!
И в самом деле уже слышался свисток локомотива, пока еще невидимого за поворотом железнодорожного полотна.
— Назад! — крикнул Керабан.
— Назад! — крикнул Саффар!
В этот момент шум от локомотива усилился. Потерявший голову дежурный махал своим флажком, чтобы остановить поезд. Но было слишком поздно. Состав уже появился из-за поворота…
Господин Саффар, видя, что времени на переезд уже нет, стремительно отступил. Бруно и Низиб бросились в стороны. Ахмет и ван Миттен, схватив Керабана, быстро увели его, в то время как ямщик тащил свою упряжку с пути.
В этот миг поезд пронесся со скоростью экспресса. Он ударил заднюю ось кареты, которая не успела полностью сойти с его пути, и, разнеся ее на куски, исчез, так что пассажиры даже не почувствовали удара от столкновения.
Господин Керабан вне себя хотел броситься на своего противника, но тот тронул с места лошадь, надменно, даже не удостоив Керабана взглядом, переехал через путь и в сопровождении своих спутников умчался галопом.
— Подлец! Негодяй! — кричал Керабан, удерживаемый ван Миттеном. — Если я его еще раз когда-нибудь встречу!
— Да, но пока что у нас больше нет почтовой кареты! — заметил Ахмет, разглядывая бесформенные остатки экипажа, разбросанные у дороги.
— Пусть так, племянник, пусть так! Но я все же прошел, и прошел первым!
Заявление вполне в духе Керабана.
В этот момент приблизились несколько казаков — из тех, что в России заняты наблюдением за дорогами. Они видели все, что произошло на переезде. Первым их побуждением было подъехать и схватить господина Керабана за шиворот. Отсюда — протесты Керабана, бесполезное вмешательство его племянника и друга, сильнейшее сопротивление упрямейшего из людей, который, помимо нарушения полицейских железнодорожных правил, мог теперь ухудшить свое положение еще и бунтом против властей.
С казаками порассуждаешь не больше, чем с жандармами. Им также нельзя оказывать сопротивления. Как бы там ни было, но до предела разгневанный господин Керабан был уведен на станцию Сакарио, а ошеломленные Ахмет, ван Миттен, Бруно и Низиб остались перед своей разбитой каретой.
— В хорошенькую историю мы попали! — сказал голландец.
— Но мой дядя! — расстроился Ахмет. — Мы не можем его так покинуть!
Через двадцать минут перед ними прошел поезд из Тифлиса в Поти. Они посмотрели на него. В окне одного из купе появилась растрепанная голова господина Керабана, красного от ярости, с налитыми кровью глазами, как оттого, что он был арестован, так и оттого, что впервые в жизни эти свирепые казаки заставили его ехать по железной дороге!
Нельзя было оставлять негоцианта одного в этой ситуации. Требовалось как можно быстрее прекратить конфликт, в который вовлекло его одно только упрямство. Никак невозможно допустить, чтобы все это затянулось и привело к опозданию! Поэтому, оставив бесполезные теперь обломки кареты, Ахмет и его спутники взяли напрокат тележку. Ямщик запряг в нее своих лошадей, и так быстро, как было возможно, все устремились по дороге в Поти. Требовалось проехать шесть лье, и за два часа их преодолели. Добравшись до города, Ахмет и ван Миттен направились к полицейскому участку, чтобы потребовать освобождения злосчастного Керабана. То, что они там узнали, отнюдь не избавило их от беспокойства по поводу как судьбы правонарушителя, так и возможности новых задержек.
После того, как господин Керабан заплатил очень большой штраф сперва за нарушение, а затем за сопротивление властям, его передали в руки казаков и направили на границу. Так что теперь нужно было как можно быстрее догнать негоцианта, а для этого достать какое-либо средство передвижения.
Ахмет захотел узнать, что случилось с господином Саффаром. Выяснилось, что тот покинул Поти. Он только что сел на пароход, заходящий в различные порты Малой Азии. Но Ахмету не удалось узнать, куда направлялась эта надменная личность, и он увидел на горизонте лишь облачко пара от корабля, который увозил Саффара к Трапезунду.